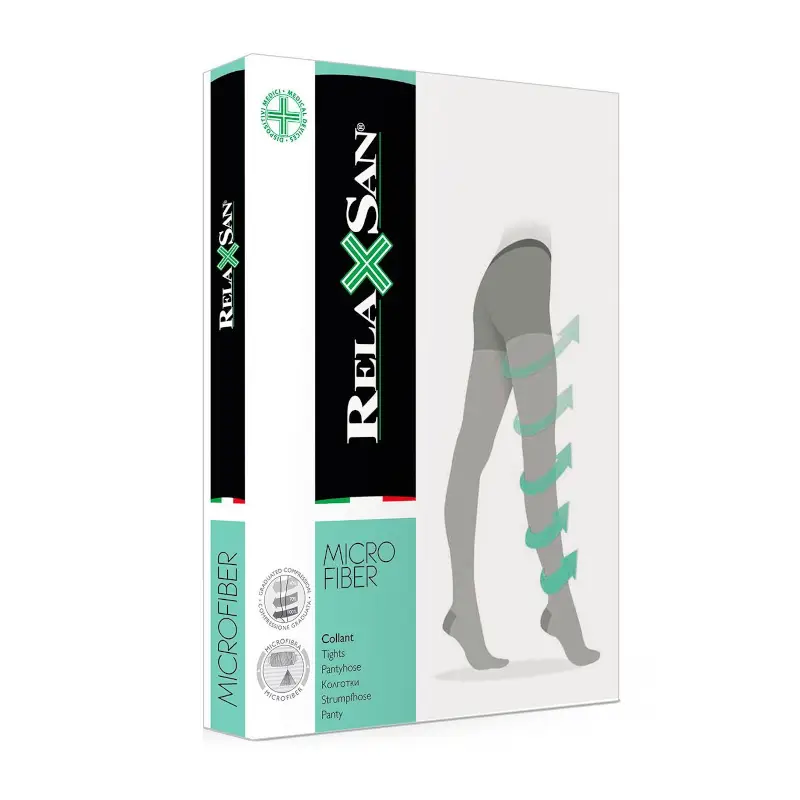Интересное сегодня
Искусственный интеллект в терапии: польза и риски чат-ботов ...
Искусственный интеллект в психиатрии: первые результаты В марте 2025 года исследователи опубликовали...
Оценка психометрического скрининга у пациентов с раком
Введение Диагностика и лечение рака связаны с увеличением уровней психологического стресса, включая ...
Опыт и восприятие взрослых с легкими когнитивными нарушениям...
Введение в проблему легких когнитивных нарушений Легкие когнитивные нарушения (ЛКН) становятся все б...
Скрининг расстройства аутистического спектра у детей: новый ...
Важность раннего скрининга аутизма Американская академия педиатрии рекомендует проводить плановый ск...
Как пространственные частоты влияют на распознавание слов: и...
Введение Распознавание зрительных слов — это сложный процесс, который является ключевым для коммуник...
Как перестать опаздывать: 6 эффективных советов от эксперта
Почему мы опаздываем и как это изменить Хорошая пунктуальность — навык, к которому стремятся многие....
Недоношенность и её последствия: обзор проблемы
По всему миру более 10% детей рождаются преждевременно [1]. Несмотря на достижения в медицинской помощи недоношенным младенцам, которые привели к повышению выживаемости [2] и снижению тяжести послеродовых осложнений, таких как детский церебральный паралич [3] в странах с высоким уровнем дохода, эта группа детей по-прежнему подвержена повышенному риску ухудшения нейропсихологического функционирования [4, 5] и проблем с психическим здоровьем [6, 7]. Риск когнитивных и психических нарушений возрастает с уменьшением срока гестации [8,9,10]. Таким образом, особенно недоношенность с очень низким весом при рождении (VLBW; <1500 г) или очень преждевременное рождение (VPT; <32 недель гестации) связана с повышенным риском развития психических расстройств в дальнейшем [6, 11, 12]. В частности, особое сочетание невнимательности/гиперактивности, эмоциональных и социальных трудностей обсуждалось как «фенотип поведения недоношенных», обычно указывающий на больший риск внутренних (internalizing) проблем, чем внешних (externalizing) [11]. Соответственно, такие дети склонны демонстрировать внутренние проблемы поведения, такие как застенчивость, тревожность и социальная изоляция [7, 10].
Поскольку распространенность поведенческих проблем, особенно внутренних, среди недоношенных детей остается высокой в более позднем детстве [13] и даже простирается на подростковый возраст [14, 15] и взрослую жизнь [10, 16], важно выявлять ранние предикторы. Однако до сих пор мало известно о долгосрочном развитии поведенческих проблем в детстве в связи с потенциальными влияющими факторами и предвестниками развития после преждевременного рождения [7].
Развитие и влияющие факторы психопатологии при недоношенности с VLBW
Исследования, изучающие поведенческое развитие детей с VLBW или VPT в течение более длительного периода, предполагают умеренную стабильность их поведенческих и эмоциональных проблем. Например, крупное нидерландское когортное исследование выявило высокую частоту поведенческих проблем, особенно внутренних, у детей с VLBW в возрасте 5 лет, которые оставались высокими в возрасте 10–11 лет [17]. Мета-анализ также указал на более высокий уровень внутренних проблем у детей с VLBW или VPT, которые оставались стабильными во всех исследуемых возрастных группах от 5 до 22 лет [13]. Аналогично, мета-анализ норвежского когортного исследования сообщил о более высокой распространенности психических расстройств у лиц с VLBW по сравнению с контрольной группой от подросткового возраста до молодости, причем наиболее распространенным было тревожное расстройство [18]. Кроме того, лица с VLBW или VPT подвержены риску не только стойких, но и возникающих или нарастающих симптомов в детстве [19] и от подросткового возраста до молодости [20].
Исследования, посвященные предиктивным факторам социально-эмоциональных или поведенческих проблем у детей с VLBW или VPT, все еще ограничены и показывают неоднозначные результаты [21]. Потенциальные факторы, способствующие неблагоприятным когнитивным и социально-эмоциональным исходам у недоношенных детей в целом, включают медицинские, нейробиологические и средовые факторы. Стрессовая обстановка отделения интенсивной терапии новорожденных, включая болезненные медицинские процедуры, такие как инъекции, венепункции и хирургические вмешательства, связана с более высоким уровнем социально-эмоциональных проблем в раннем детстве [22, 23]. Дальнейшее физическое и неврологическое недоразвитие недоношенных младенцев может привести к изменениям в структуре и развитии мозга, которые связаны с последующими трудностями в познании, социальном взаимодействии и поведении [24]. Родители новорожденных, находящихся в отделении интенсивной терапии, имеют высокую распространенность послеродовых проблем с психическим здоровьем [25, 26], особенно повышенный риск развития послеродовой депрессии [27,28,29]. Показано, что дети депрессивных родителей в целом демонстрируют худшее когнитивное функционирование, социально-эмоциональное развитие и адаптивное поведение [30, 31], и что недоношенные дети могут быть еще более восприимчивы к родительской депрессии, чем доношенные дети [32]. Таким образом, проблемы с психическим здоровьем родителей могут дополнительно способствовать повышенному риску развития поведенческих или эмоциональных проблем у бывших недоношенных детей [6]. Более того, социально-экономические недостатки связаны с неблагоприятными исходами родов [33], нарушением психосоциального здоровья детей в целом [34], а также с поведенческими проблемами, особенно у недоношенных детей [35,36,37]. Для лучшего понимания повышенной распространенности психопатологии и ее этиологических механизмов у недоношенных также важно исследовать предвестники поведенческих проблем, такие как темперамент [38, 39].
Темперамент младенца как предиктор поздней психопатологии после преждевременного рождения
Темперамент младенца относится к ранним индивидуальным различиям в активности, аффективности, внимании и саморегуляции [40] и является ключевым предиктором психопатологии в детстве и подростковом возрасте [41, 42]. В частности, темперамент, связанный с более «трудным» поведением младенца и негативными эмоциями, связан с последующими поведенческими проблемами [43,44,45,46]. Следовательно, мы сосредоточились на трудном темпераменте младенца, характеризующемся частым негативным настроением, интенсивными реакциями на стимулы, нерегулярными биологическими ритмами и плохой адаптивностью [47]. Эта концепция подчеркивает «соответствие» между чертами младенца и факторами окружающей среды, влияющими на его адаптацию. Трудный темперамент возникает из сложных пренатальных и постнатальных биологических и средовых влияний [40], которые могут быть особенно актуальны после преждевременного рождения.
Недоношенные младенцы подвергаются нейроразвивающим, медицинским и средовым стрессорам, которые могут нарушить развитие мозга и снизить социально-эмоциональное функционирование [48]. Соответственно, недоношенность ассоциируется с трудностями саморегуляции [49,50,51,52,53], которые могут сделать раннее взаимодействие с опекунами более сложным [54, 55]. Это может снизить «соответствие» младенца и окружающей среды, особенно в случаях ограниченных родительских ресурсов, таких как стойкие семейные конфликты [38] или низкое качество воспитания [56, 57]. Тем не менее, лишь немногие исследования напрямую изучали связь между недоношенностью и темпераментом младенца. Мета-анализ сообщил об ограниченных связях с конкретными измерениями темперамента, включая более высокий уровень активности и более низкую продолжительность внимания/настойчивость у недоношенных детей [39]. Исследования бразильской исследовательской группы предполагают, что трудные измерения темперамента, такие как повышенный негативный аффект и сниженный волевой контроль, связаны с последующими поведенческими проблемами у недоношенных детей младшего возраста [49, 58,59,60,61]. Однако эти исследования имеют методологические ограничения, включая широкие возрастные диапазоны, кросс-секционные дизайны и перекрывающиеся выборки. Напротив, немецкое исследование не выявило прямой связи между недоношенностью и негативной реактивностью у детей младшего возраста [62]. Учитывая эти неоднозначные результаты и отсутствие данных за пределами младшего возраста, роль темперамента младенца в долгосрочном эмоциональном развитии после преждевременного рождения требует дальнейшего изучения. Поэтому настоящее исследование изучает трудный темперамент как потенциальный модератор в связи между VLBW и последующим развитием ребенка.
Настоящее исследование
Цель нашего исследования — изучить роль темперамента младенца во внутренних проблемах у детей, рожденных недоношенными с VLBW, по сравнению с их доношенными сверстниками, с учетом потенциальных влияний факторов семейного контекста. Мы предполагаем, что трудный темперамент младенца в возрасте 12 месяцев модерирует связь между VLBW и поведенческими проблемами детей в 2 года, 4,5–5 лет и 8 лет, что означает, что более высокий уровень трудного темперамента усилит эту связь.
Кроме того, для более полного понимания и устранения пробелов в исследованиях с эмпирическими данными будут изучены внешние проблемы и общие поведенческие проблемы как дополнительные исходы. Возможные изменения в поведенческих проблемах в разные возрасты и возможные альтернативные медиаторные эффекты также будут протестированы в рамках исследовательских анализов.
Методы
Дизайн исследования
Данные для этого исследования были получены из проспективного когортного исследования HaFEn («Гамбургское исследование развития младенцев с VLBW и доношенных младенцев») — продольного многоцентрового исследования, проведенного в Большом Гамбурге, Германия [63]. Исследование HaFEn включало три крупных центра перинатальной медицинской помощи и несколько точек оценки от послеродового периода до школьного возраста. Для настоящего анализа предикторы оценивались в T1 (4–6 недель после родов) и T3 (12 месяцев после родов), оба с поправкой на гестационный возраст. Исходные переменные оценивались с T4 по T6 (2 года, 4,5–5,0 лет и 8 лет). Это первая публикация по данному проекту, изучающая развитие ребенка до 8 лет. Все участники исследования подписали информированные письменные согласия, и исследование было одобрено Этическим комитетом врачей Гамбурга, Германия (PV2660).
Выборка
Данные собирались в период с 2006 по 2017 год. Участниками были семьи с недоношенными младенцами с VLBW и семьи с доношенными младенцами в качестве контрольной группы, набранные между 2006 и 2008 годами [63]. Критерии включения для группы недоношенных: преждевременные роды (< 37 недель гестации) и VLBW (< 1500 г). Критерии включения для группы доношенных: ≥ 37 недель гестации для одноплодных родов и ≥ 34 недель для многоплодных. Включение многоплодных родов в группу доношенных при гестационном возрасте ≥ 34 недель основано на наблюдении, что многоплодные роды чаще происходят не в срок по сравнению с одноплодными [64] по различным медицинским причинам. Кроме того, многоплодные дети, рожденные при таком гестационном возрасте, как правило, имеют лучшие результаты развития, чем одноплодные дети, рожденные между 34 и 37 неделями [65]. Установление порога в 34 недели обеспечивает сбалансированное представительство многоплодных в обеих группах, поскольку к этому времени большинство из них имеют вес при рождении выше порога низкого веса при рождении, что делает их релевантными для сравнительного анализа развития. Следующие критерии исключения применялись к обеим группам: недостаточное знание немецкого языка, преждевременная выписка, проживание слишком далеко от исследовательского центра и смерть младенца до первой оценки. Случаев серьезных заболеваний (например, тяжелых нарушений, когнитивных нарушений или генетических аномалий) не было. Настоящий анализ включал одного ребенка из семьи, первенца в случае многоплодной беременности. Из первоначально опрошенных 236 семей с детьми с VLBW и 275 семей с доношенными детьми 38,1% и 50,5% соответственно отказались от участия в исследовании. Из 146 семей с VLBW и 136 семей с доношенными детьми, принявших участие, 48,6% и 47,8% соответственно были исключены из исследования за непредоставление данных о результатах на каких-либо этапах оценки (T4-T6). Сравнение между участвующими и исключенными случаями не выявило значимых различий по большинству исходных переменных, за исключением SES (r =.14, p =.033), где у участников в среднем был немного более высокий SES.
Меры
Исходные данные
Поведенческие проблемы ребенка оценивались по материнским отчетам с использованием возрастных версий Детского перечня поведения (Child Behavior Checklist, CBCL) [66, 67] — CBCL 1/5–5 в T4 (2 года) и T5 (4,5–5 лет), CBCL 4–18 в T6 (8 лет). CBCL состоит из 113 пунктов, относящихся к восьми синдромным шкалам (тревожный/депрессивный, депрессивный, соматические жалобы, социальные проблемы, проблемы с мышлением, проблемы с вниманием, нарушение правил, агрессивное поведение), оцениваемых по 3-балльной шкале (от 0 = «неправда» до 2 = «очень правда или часто правда») за последние шесть месяцев. Синдромные шкалы могут быть сгруппированы в два составных показателя: внутренние проблемы и внешние проблемы, которые могут быть далее обобщены в составном показателе общих проблем. Более высокие баллы указывают на более высокий уровень поведенческих проблем. Для анализа использовались нормализованные T-баллы (M=50, SD=10). CBCL также предоставляет пороговые значения для различения случаев в нормальном диапазоне (T < 60), пограничном диапазоне (60–63) и клиническом диапазоне (≥ 64).
Предикторы
Статус рождения ребенка определялся на основе гестационного возраста и веса при рождении, которые оценивались непосредственно после рождения в отделении интенсивной терапии новорожденных или в акушерском отделении неонатологами или акушерами. Участники были разделены на две группы: недоношенные дети с VLBW и доношенные дети (VLBW: 0 = нет, 1 = да).
Симптомы депрессии у матери и отца оценивались с помощью самоотчета по шкале Бека для оценки депрессии (Beck Depression Inventory, BDI) [68, 69] в T1 (4–6 недель). Она состоит из 21 пункта, оцениваемых по 4-балльной шкале (0–3) относительно симптомов депрессии за последние две недели. Общий балл варьируется от 0 до 63, причем более высокие баллы указывают на более высокий уровень симптомов депрессии. Баллы от 11 до 17 указывают на легкую депрессию, а баллы выше 17 — на клинически значимую депрессию [68].
Социально-экономический статус (SES) оценивался в T1 (4–6 недель) по материнскому отчету с использованием немецкого индекса Винклера [70], который состоит из трех измерений: образование, род занятий и доход семьи. Этот индекс оценивает каждое измерение от 1 до 7, в результате чего общий балл варьируется от 3 до 21, причем более высокие баллы указывают на более высокий SES.
Темперамент младенца оценивался по материнскому отчету с использованием опросника характеристик младенца (Infant Characteristics Questionnaire, ICQ) [71] в T3 (12 месяцев). ICQ состоит из 35 пунктов, касающихся поведения младенца, оцениваемых по 7-балльной шкале Лайкерта (1–7), которые могут быть сгруппированы в четыре подшкалы: Капризный-трудный, Неприспособляемый (т.е. неприспособляемый к новым стимулам), Тупой (т.е. не общительный и не активный) и Непредсказуемый (т.е. труднее предсказать потребности младенца). В нашем основном анализе использовался составной балл, включающий все четыре подшкалы, и он указывает на общую «трудность» поведения младенца, варьируясь от 35 до 245. Более высокие баллы указывают на более высокий уровень трудного поведения младенца. ICQ был переведен на немецкий язык для целей этого исследования в соответствии с рекомендациями Браккена и Бароны [72].
Статистический анализ
Помимо одномерных описательных статистик, корреляция Пирсона использовалась для изучения ассоциаций между изучаемыми переменными. Продольные смешанные линейные модели, включающие фиксированные и случайные эффекты, проводились для исследования эффекта модерации темперамента младенца в T3 (12 месяцев) на связь между VLBW (T1, 4–6 недель) и поведенческими проблемами детей от T4 до T6 (от 2 до 8 лет). Баллы CBCL и возраст формировали уровень 1 (продольный), а все остальные переменные — уровень 2 (кросс-секционный). Баллы ICQ были центрированы по средней групповой. Нулевая модель показала, что 34,8% дисперсии генерировались повторными измерениями исхода. Возраст в годах как случайный фактор стал статистически значимым, тогда как квадрат возраста (представляющий нелинейный, т.е. ускоренный или замедленный эффект возраста) — нет.
Пропущенные данные на уровне 2 были полностью случайными (тест MCAR Литтла: Хи-квадрат = 157,569, df = 168, p = .707), и поэтому были импутированы с использованием алгоритма Expectation-Maximization. Все анализы проводились с использованием IBM SPSS Statistics 29 для Windows.
Результаты
Характеристики выборки, описательные статистики и корреляции
В Таблице 1 представлены описательные данные для кросс-секционных переменных. В общей сложности N = 146 детей (один ребенок на семью, все переменные по материнским отчетам, кроме BDI отца) предоставили данные для настоящего исследования. Чуть более половины детей имели VLBW (51,4%) и были зарегистрированы как мужчины (51,9%). Участвующие семьи в среднем имели относительно высокий уровень SES. Матери предоставили больше данных о симптомах депрессии, чем отцы, из-за более высоких показателей участия матерей. Симптомы депрессии как у матерей, так и у отцов в среднем были низкими, причем баллы матерей показывали более высокую вариативность. Общая трудность младенца и подшкалы темперамента младенца в среднем находились на нижних концах соответствующих шкал.
Таблица 1. Описательные статистики кросс-секционных переменных уровня 2.
В Таблице 2 представлены описательные статистики продольных переменных исследования. В этой таблице также указано количество доступных отчетов по каждому временному этапу. На уровне отчетов об исходах T1 (4–6 недель) — T4 были полными, 122 отчета были еще доступны для T5 (84%), и 99 для T6 (68%). Средний возраст детей составлял 2,0 года в T4, 4,4 года в T5 и 8,0 лет в T6. В целом, оценки поведенческих проблем были относительно низкими.
Таблица 2. Описательные статистики продольных переменных уровня 1.
Нулевые корреляции включенных в модель переменных приведены в Таблице 3, показывая величины эффектов от почти нуля до 0,90. Исходные переменные показали значимые корреляции с большинством изучаемых переменных. Внутренние проблемы ребенка показали положительные малые и средние корреляции с VLBW, возрастом ребенка, симптомами депрессии у матери и отца, а также со всеми переменными темперамента младенца, тогда как его корреляция с SES была отрицательной и малой по величине. Эффект модерации требует независимости предикторных переменных и переменных-модераторов, что обеспечивается незначимой корреляцией между VLBW и общей трудностью младенца.
Таблица 3. Бивариантные корреляции между переменными модели.
Прогнозирование внутренних проблем и эффект модерации темперамента младенца
В Таблице 4 представлены результаты смешанной линейной модели для прогнозирования внутренних проблем ребенка от T4 до T6 (от 2 до 8 лет). Вопреки гипотезе, взаимодействие между VLBW и трудным темпераментом младенца не внесло значимого вклада в прогноз (фиксированный эффект = 0,0, p = 0,790, объясненная дисперсия 0,0%). Таким образом, согласно нашим данным, темперамент не является модератором связи между VLBW и внутренними проблемами. Кроме того, VLBW не внесло значимого вклада как главный эффект (−1,3, p = 0,797). Тем не менее, трудный темперамент показал значимый главный эффект, указывающий на то, что более высокий уровень трудности младенца связан с более высоким уровнем внутренних проблем в детстве (R2 = 4,0%, p = 0,000). В целом, внутренние проблемы детей увеличивались со временем. Далее, более низкий SES и более высокий уровень симптомов депрессии у отца вскоре после рождения значительно предсказывали более высокий уровень внутренних проблем у ребенка.
Таблица 4. Прогнозирование внутренних проблем ребенка от 2 до 8 лет.
Необъясненная дисперсия в 25,0 T-баллов предполагает, что существуют неучтенные факторы, связанные с траекториями внутренних проблем. Дисперсия в исходном балле T4 (2 года) в 42,1 балла также является значительной, указывая на существенные различия в начальных баллах внутренних проблем в T4 (2 года). Ковариация −4,5 между исходным баллом и возрастом ребенка была значимой, что указывает на то, что младшие дети чаще демонстрировали более высокие уровни внутренних проблем в T4. Значимая дисперсия в 1,3 в возрасте ребенка только указывала на то, что дети измерялись в разные моменты времени.
Представленные анализы также проводились с использованием подшкал темперамента младенца, показывая аналогичные результаты, как указано выше. Дополнительные предикторы, такие как количество пропущенных значений, средняя структура центрированных баллов ICQ, другие матрицы остатков или бутстрэппинг, не улучшили модель. Используя метод пошагового обратного отбора, в окончательную модель были включены следующие переменные: возраст ребенка, SES, родительские симптомы депрессии и темперамент младенца (объясненная дисперсия 9,1%).
Исследовательские анализы прогнозирования внешних проблем ребенка и общих проблем
Дополнительно были проведены анализы по той же процедуре для прогнозирования внешних проблем ребенка и общих проблем. Как показано в Таблицах 5 и 6, результаты аналогичны результатам для внутренних проблем. Трудность младенца не показала значимого прогностического эффекта в этих моделях, тогда как более низкий SES и более высокий уровень симптомов депрессии у отца вскоре после рождения по-прежнему значительно предсказывали более высокий уровень проблем у ребенка. Кроме того, трехсторонние взаимодействия (темперамент x вес при рождении x возраст) были добавлены для исследования возможных изменений в разные возрасты для всех трех шкал исходов, но значимых результатов не было. Наконец, пост-хок медиаторные анализы были проведены с помощью тестов Собеля, но не дали значимого медиаторного эффекта (0,04, p = 0,823 для общего показателя трудности; −0,24, p = 0,476 для капризный-трудный; 0,02, p = 0,858 для неприспособляемый; 0,01, p = 0,976 для тупой, и −0,01, p = 0,968 для непредсказуемый).
Таблица 5. Прогнозирование внешних проблем ребенка от 2 до 8 лет.
Таблица 6. Прогнозирование общих проблем ребенка от 2 до 8 лет.
Обсуждение
Цель данного исследования — изучить влияние трудного темперамента младенца в возрасте 12 месяцев на внутренние проблемы у недоношенных детей с VLBW по сравнению с их доношенными сверстниками в возрасте от 2 до 8 лет. Результаты показали отсутствие модулирующего эффекта младенческой трудности на связь между VLBW и детскими внутренними проблемами (т.е. более высокий уровень трудного темперамента не усиливал и не ослаблял эту связь). VLBW не продемонстрировало значимой связи с последующими внутренними проблемами в детстве. Однако более высокий уровень трудного темперамента младенца был значительно связан с более высоким уровнем внутренних проблем в обеих группах.
Хотя наш основной вывод показал, что трудный темперамент младенца не оказывает особого негативного влияния на детей с VLBW в большей степени, чем на их доношенных сверстников, тем не менее, темпераментная предрасположенность оказалась значимой в обеих группах. В частности, дети, которых матери воспринимали как трудные в обращении в младенчестве (т.е. капризные, неприспособляемые, вялые или непредсказуемые), продолжали демонстрировать поведенческие трудности в детстве. В целом, дети с более сложным темпераментом более уязвимы к неблагоприятным переживаниям, но они также, как правило, больше выигрывают от поддерживающих вмешательств [73, 74]. Следовательно, учет темперамента младенца может помочь на ранней стадии выявить детей из группы риска и адаптировать лечение для улучшения их социально-эмоционального развития [75].
Отсутствие модулирующего эффекта трудного темперамента младенца может быть связано с тем, что значимый главный эффект VLBW на исход не был очевиден в нашем многомерном анализе. Аналогично предыдущему анализу из нашей когорты, хотя более высокий уровень внутренних проблем коррелировал с VLBW, эта связь стала незначимой при учете других факторов семейного контекста [63]. С методологической точки зрения, наша выборка могла выиграть от высококачественной медицинской поддержки в центрах набора, включая тщательный медицинский мониторинг, направление к специалистам по вопросам развития и психиатрическую помощь родителям. Такая поддержка, наряду с дополнительной помощью нашей исследовательской группы по вопросам развития ребенка и несколько более высоким SES участников по сравнению с не участвовавшими, могла смягчить некоторые трудности, с которыми столкнулись семьи с VLBW, и улучшить их результаты развития. Это особенно важно, учитывая, что недоношенные дети могут больше выигрывать от раннего вмешательства или профилактических мер [57]. В то же время это согласуется с мета-анализом, подчеркивающим, что повышенный риск психопатологии не подразумевает обязательного возникновения проблем с психическим здоровьем после преждевременного рождения [76]. Другие исследования, изучающие потенциальные модераторы, такие как самоконтроль ребенка или материнская теплота, в связи между недоношенностью и результатами развития, также не выявили значимых модулирующих эффектов [77, 78]. Было предложено, что включение переменных воспитания наряду с характеристиками ребенка и расширение периода оценки в послеродовой период могут быть важны для выявления таких модераторов.
За последние десятилетия медицинские достижения значительно улучшили результаты развития после преждевременного рождения за счет внедрения методов вторичной профилактики [79, 80]. Кроме того, были реализованы меры по обеспечению развития, направленные на создание более комфортной и менее стрессовой среды для младенцев и их родителей, такие как продвижение физического контакта через «кенгуру-уход», минимизация воздействия звука и света, предоставление родительских рекомендаций и поддержки, а также сокращение болезненных процедур, все из которых связаны с улучшением результатов развития [79, 81,82,83]. Соответственно, предыдущие исследования, проведенные в странах с высоким уровнем дохода в аналогичные периоды с сопоставимой медицинской помощью, показали лишь малые или незначительные эффекты недоношенности на поведенческие и развивающие проблемы [35, 84, 85].
Наш анализ выявил, что существуют некоторые еще не исследованные факторы, которые имеют значение для долгосрочного развития поведенческих проблем у детей с VLBW. Это вызывает вопросы, например, когда у этих детей развиваются психологические трудности и при каких обстоятельствах? Значимые эффекты наших ковариат указывают на значимое влияние факторов окружающей среды, таких как SES и психическое здоровье родителей, которые, как подчеркивается, значительно влияют на развитие ребенка после преждевременного рождения [21, 35, 84, 86, 87]. Предыдущие исследования показали, что повышенный уровень стресса, родительская психопатология и бедность увеличивают риск преждевременных родов [33, 88,89,90,91]. Кроме того, факторы окружающей среды, такие как низкий SES, могут также привести к изменениям в морфологии мозга независимо от недоношенности [92]. Это предполагает потенциальный порочный круг, когда большая доля недоношенных детей рождается в менее благоприятных условиях, в то время как неблагоприятная среда может дополнительно увеличить их риск развития нарушений [35, 37, 93].
Примечательно, что отцовская послеродовая депрессия была связана с более высоким уровнем поведенческих проблем у детей, что указывает на важность не только матерей, которые часто считаются основными опекунами ребенка. Это соответствует некоторым предыдущим выводам. Например, Hadfield, O’Brien [94] показали, что эмоциональный стресс у отцов, но не у матерей, был связан с худшим социально-эмоциональным и когнитивным развитием у недоношенных детей в возрасте 3 лет. Этот вывод указывает на то, что недоношенные дети, в частности, могут быть более негативно затронуты отсутствием отцовской эмоциональной поддержки. Аналогично, Ahnert, Teufl [95] обнаружили, что низкое качество игры отца с ребенком связано с внутренним поведением ребенка на протяжении дошкольного возраста, особенно у недоношенных детей. Таким образом, важно рассматривать семью как систему и признавать роль отцов в развитии детей [96], что также было рекомендовано в целом [97]. В контексте преждевременных родов Baldoni, Ancora [98] подчеркнули критическую роль отцов в поддержке семьи в уходе за недоношенным ребенком. Роль отца важна не только в непосредственном взаимодействии с ребенком, но и как источник безопасности во время беременности и изменений в родительской жизни, связанных с ребенком. Отцы могут служить безопасной базой, особенно после эмоционального стресса после преждевременных родов, и особенно важны при наличии братьев и сестер.
Необходимы дальнейшие исследования предвестников развития и влияющих факторов окружающей среды на развитие ребенка после преждевременного рождения, чтобы помочь понять основные этиологические пути и разработать эффективные программы вмешательства. Недавний систематический обзор вмешательств для родителей детей, рожденных недоношенными или с низким весом при рождении, показал, что программы, ориентированные на поведение родителей, дают многообещающие результаты [99]. Хотя они и не специфичны для недоношенных детей с VLBW, наш вывод относительно трудного темперамента младенца указывает на то, что работа с трудностями, связанными с трудным поведением младенца, может помочь улучшить качество воспитания. Исследование по обучению родителей показало, что менее регулируемые дети, склонные к стрессу, показали большее улучшение деструктивного поведения ребенка после вмешательства [100]. Кроме того, большинство программ вмешательства реализуются в первые три года жизни [99]. Однако наши выводы указывают на повышенные внутренние проблемы и общие поведенческие проблемы до дошкольного возраста, что предполагает необходимость поддерживающих мер за пределами раннего детства.
Сильные стороны и ограничения
Наша выборка состоит из большой когорты рождения, включающей как недоношенных детей с VLBW, так и доношенных детей, набранных из трех разных перинатальных центров. Предикторы, включенные в наш анализ, оценивались в разные моменты времени в послеродовом периоде до школьного возраста. Тем не менее, наша выборка показала географическую и социально-экономическую однородность и имела доступ к высококачественной медицинской помощи, что могло ограничить дисперсию в наших данных. Кроме того, мы исключительно полагались на материнские отчеты для оценки темперамента младенца и поведенческих проблем ребенка, что может привести к потенциальной предвзятости. Наконец, T-баллы необходимы для сравнения баллов по различным возрастным формам CBCL. Однако эта трансформация упрощает данные, что может привести к потере информации или увеличению ошибки дисперсии.
Заключение
Несмотря на отсутствие модулирующего эффекта трудного темперамента младенца на психическое развитие недоношенных детей с VLBW, наши выводы указывают на важность трудных младенческих поведений в целом для последующих поведенческих проблем в детстве. Кроме того, более низкий SES семьи и более высокий уровень отцовской депрессии вскоре после рождения были связаны с большим количеством внутренних проблем у детей. Необходимы исследования с различными группами недоношенных детей (т.е. разной степени зрелости) и более разнообразными выборками в отношении младенческих темпераментных предрасположенностей и социально-экономических характеристик, чтобы выявить влияющие факторы на развитие ребенка после преждевременного рождения.