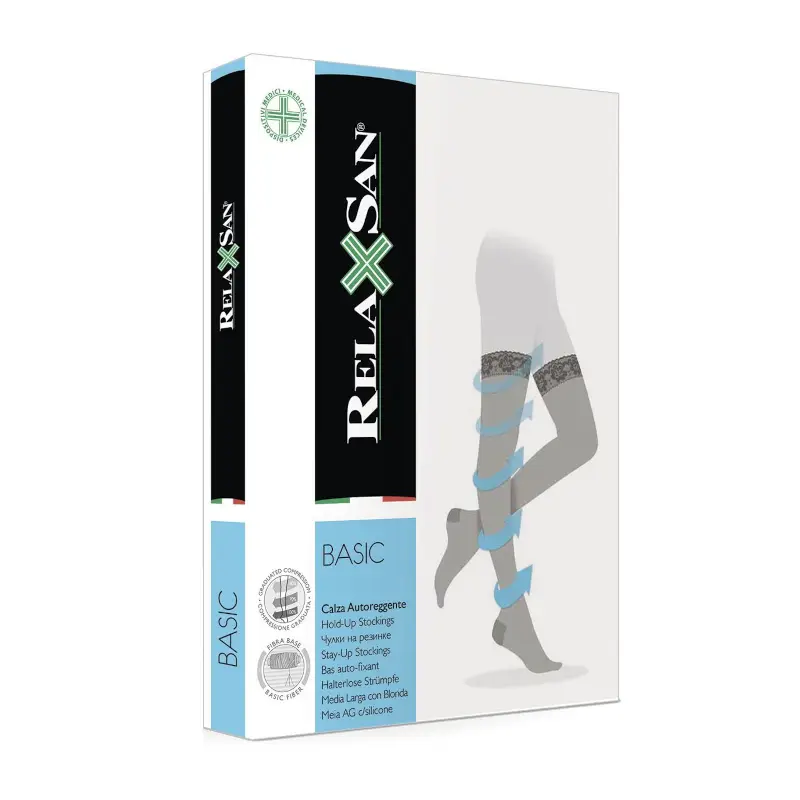Интересное сегодня
Может ли ИИ заменить психотерапевта? Исследование опасностей...
Может ли ИИ заменить психотерапевта? Исследование опасностей Как психиатр и терапевт, я часто слышу ...
Влияние инструментального лидерства на счастье и поведение н...
Важность лидерства для новичков В первые недели работы новые сотрудники переходят от статуса сторонн...
Классическое обусловливание, IAT, IRAP и FAST: сравнение мет...
Введение в методы оценки поведенческих функций Фундаментальный вопрос психологической науки касается...
Поздние депрессия и биполярное расстройство: ранние признаки...
Поздняя депрессия и биполярное расстройство: ранние признаки нейродегенеративных заболеванийПоздняя ...
Влияние Блуждающего Ума на Обучение и Проблемное Решение
Введение Блуждающий ум — это интригующее явление; в среднем человек проводит до 50% своего бодрствую...
Нормальное распределение (Колоколообразная кривая): Основные...
Введение в нормальное распределение (колоколообразная кривая) Колоколообразная кривая, также известн...
Введение в управление изменениями
Организации находятся в состоянии напряжения между необходимостью управления и своей внутренней динамикой. С одной стороны, они должны целенаправленно развиваться; с другой стороны, как социальные системы, они не могут быть напрямую управляемы. Управление изменениями часто рассматривается как решение этой проблемы: учитывая человеческий фактор, оно должно позволить внедрять нововведения целенаправленно, несмотря на организационную автономию. Однако, по нашему мнению, управление изменениями само подвержено тому противоречию, которое оно пытается преодолеть.
На практике управление изменениями часто основывается на линейном подходе к управлению. Путем вовлечения сотрудников организации (Locher 2022) пытаются предотвратить сопротивление и, следовательно, вызвать желаемое поведение (Hehn et al. 2016, S. 26ff.). Однако этот подход не учитывает, что три ключевых элемента изменений — человеческие эмоции, социальные отношения и время — по своей природе недоступны для прямого контроля (Rosa 2016, S. 187ff.; 341ff.; 500ff.). Следовательно, управление изменениями в его обычной форме обречено на провал, если применять теорию Розы.
Мы не отрицаем необходимость управления изменениями: организации должны уметь целенаправленно управлять своим развитием, иначе они станут заложниками случайностей и конфликтов интересов. С нашей точки зрения, существует парадокс: социальные процессы в организации не поддаются целенаправленному влиянию, но именно такое влияние необходимо для изменений в интересах организации. Парадоксы не могут быть окончательно разрешены, но через их рефлексию можно найти подход, который наилучшим образом балансирует между полюсами (Tuckermann et al. 2023). Цель этой статьи — углубить понимание парадокса и разработать практические варианты действий.
Тетралемма как подход к решению парадокса «Необходимость управления vs. Недоступность»
Поскольку речь идет о парадоксе, неразрешимом противоречии, мы предлагаем использовать методы управления парадоксами для организации процессов изменений. Одним из таких методов является модель тетралеммы, разработанная Varga von Kibéd и Sparrer (2005). Эта модель основывается на системном мышлении, которому мы следуем в этой статье. Для преодоления дихотомического мышления тетралемма предлагает рассмотреть четыре позиции, включая интеграцию («Оба») и открытость для неучтенных контекстов («Ни один из них»).
Целенаправленное управление
Исходная позиция заключается в целенаправленном управлении процессом изменений, как это делается в классическом управлении изменениями. Примером может служить 8-ступенчатая модель Kotter (2015, S. 35–136). Эта модель направлена на повышение приемлемости и проникновения изменений через вовлечение социальных и психологических аспектов. Модель описывает восемь последовательных шагов в трех фазах: «Развитие общего понимания», «Вовлечение и мотивация сотрудников» и «Поддержание изменений». Хотя признается, что поведение не может быть зафиксировано формальными предписаниями, делается ставка на эмоциональное вовлечение участников. Однако этот подход остается в логике линейного управления, предполагая возможность прямого влияния на восприятие и эмоции участников через использование определенных инструментов и техник.
Принятие недоступности
Противоположностью управляемых изменений является решение принять недоступность в процессах изменений. Согласно Розе, эмоции по своей природе недоступны, следовательно, контроль над эмоциональными реакциями на изменения невозможен; следовательно, негативные эмоции, такие как страх, раздражение или фрустрация, не могут быть полностью избежаны и могут проявляться в дискуссиях в рамках процесса изменений (Rosa 2016, S. 187ff., 2020, S. 83ff.). Принятие недоступности означает не стремление избежать этих эмоций, а принятие их возникновения. Это также означает принятие того, что желаемое изменение поведения может не произойти. Однако такой подход может быть неприемлем в большинстве случаев, так как организации сталкиваются с ожиданиями целенаправленного управления изменениями: как внешние стейкхолдеры, так и руководство организации, как правило, требуют целенаправленного продвижения развития организации. Следовательно, Change-менеджеры, предлагающие отказаться от целенаправленного управления, вряд ли найдут поддержку на практике. Поэтому мы считаем, что полное принятие недоступности было бы слишком простым решением.
Интеграция подходов
Исходя из вышесказанного, ни одна из позиций в своей идеальной форме не является практически приемлемой. Поэтому для управления изменениями необходимо найти подход, который учитывает парадокс и находит баланс между полюсами. Varga von Kibéd и Sparrer (2005, S. 78ff.) определяют 13 различных стратегий для позиции «Оба». Рассмотрим некоторые из них, которые кажутся наиболее перспективными в контексте процессов изменений:
- Разделение контекстов: Одной из стратегий является сосуществование двух полюсов, признавая их применимость в разных контекстах. Например, для изменений, происходящих на уровне задач, можно выбрать в основном управляемый подход, тогда как для развития организационной культуры можно принять недоступность.
- Компромисс: В отличие от разделения контекстов, где два полюса существуют одновременно, но раздельно по содержанию, здесь речь идет о смешанных формах. Это близко к реальности многих процессов изменений, где есть рамка с ключевыми элементами, но их интерпретация остается открытой. Важно сохранить достаточно пространства для недоступности, чтобы избежать впечатления псевдоучастия, не вызывая при этом ожидания, что ключевые элементы могут быть изменены.
- Итерация: Это понимание последовательной, временно чередующейся, часто контекстуально зависимой связи между двумя полюсами. В контексте процессов изменений это может означать стремление к большему или меньшему управлению в зависимости от ситуации или принятие недоступности. Важно регулярно проверять текущий подход на соответствие текущей ситуации, избегая впечатления непоследовательности.
- Неопределенность: Еще одна интересная стратегия — принятие нечетко определенной границы между двумя полюсами. Например, вместо заранее определенного плана действий можно зафиксировать только те вопросы, которые обязательно должны быть решены директивно, и те, которые обязательно должны быть приняты с учетом недоступности; промежуточная область может быть оформлена в процессе.
- Переосмысление: Несколько стратегий, предложенных Varga von Kibéd и Sparrer, связаны с переосмыслением предпосылок, лежащих в основе противоречия между двуми полюсами, так что они больше не кажутся противоречивыми. Такое переосмысление может заключаться в том, чтобы рассматривать методы изменений не как попытки сделать их доступными, а как предложения. Они будут по-прежнему использоваться, но без претензии на линейное управление, а как импульсы.
Выход за пределы полюсов
Позиция «Ни один из них» предполагает перспективы, которые выходят за пределы двух полюсов. В нашем случае можно указать на текущий контекст как на слепое пятно: в каком контексте мы находимся, остается латентным, пока мы активно не сосредоточим на этом внимание (Varga von Kibéd и Sparrer, 2005, S. 86). В нашем случае все три предыдущие позиции относятся к проектным процессам изменений. «Ни один из них» может заключаться в том, чтобы выйти за пределы контекста отдельных проектов изменений и работать над способностью организации к изменениям в целом, целенаправленно формируя ее так, чтобы она могла постоянно эволюционировать. В этом случае не потребуется конкретных проектов изменений, и вопросы, связанные с ними, отпадут. Это решение может показаться привлекательным, так как оно не просто находит компромисс с его плюсами и минусами, а обходит парадокс. Однако этот подход, вероятно, далек от реальности большинства организаций. Из-за институционализированного ожидания, что организации формируются сверху, для крупных организаций будет трудно обосновать исключительную зависимость от коллективно управляемой эволюции (Suchman 1995). Тем не менее, можно сделать вывод, что напряжение в основном возникает из-за предположения, что проект изменений инициируется руководством организации, и процесс изменений рассматривается как процесс убеждения. Если изменение возникает из «середины организации», классическое управление изменениями не потребуется, так как не нужно будет добиваться принятия уже установленных проектов.
Три области напряжения в контексте процессов изменений
После рассмотрения парадокса изменений в целом, давайте углубимся и рассмотрим три основных области напряжения, лежащие в основе этого парадокса, и предложим варианты их преодоления.
Недоступность эмоций vs. необходимость положительного отношения к изменениям
Для эффективного процесса изменений необходимо, чтобы участники имели хотя бы базовое положительное отношение к планируемым изменениям. Обычно пытаются через целенаправленное повествование вызвать положительную эмоциональную реакцию на проект изменений. В практической литературе «Change Stories» считаются стандартом для коммуникации проектов изменений (Lies 2011). Через смесь привлекательной визии и создания чувства срочности через угрожающие альтернативные сценарии пытаются влиять на эмоции. С одной стороны, это создание чувства угрозы в отношении настоящего (или будущего, которое наступит, если проект не будет реализован), с другой стороны, создание положительных эмоций в отношении будущего, к которому стремится руководство. Это должно вызвать идентификацию с проектом и вовлеченность в него (Kotter 2015, S. 31; Lauer 2019, S. 132).
С другой стороны, недоступность резонанса и эмоций означает, что аффективная связь с проектом изменений не может быть прямо управляема (Rosa 2016, S. 187ff., 2020, S. 83ff.). Это отражается в низком резонансе с оркестрованными сообщениями об изменениях, которые мы наблюдаем в нашей консультационной практике. Одной из причин является их искусственность: часто цели и задачи проектов изменений не так ясны, как их коммуникационное представление, а формируются в процессе проекта (Schütz 2022, S. 111). Change Stories создают искусственную однозначность, представляя цели проекта как когерентные и исключительно желательные; возможные негативные стороны, как правило, игнорируются. Сотрудники организации хорошо знают, что проекты изменений редко бывают исключительно положительными и редко реализуются так идеально, как представлено в презентациях. Поэтому Change Stories, как они обычно реализуются на практике, с нашей точки зрения, не способствуют повышению идентификации с проектом изменений, а могут вызвать цинизм.
Мы не выступаем против продуманной коммуникации в процессах изменений: с нашей точки зрения, структурированная информация о планируемых изменениях также необходима, и мы не оспариваем важность положительного отношения к проекту изменений. Однако идеализирующая коммуникация («Теперь все станет лучше!») обречена на провал, так как она воспринимается как неправдоподобная. Один из вариантов действий на позиции «Оба» заключается в отказе от намерения представить проект как исключительно положительный и в коммуникации собственных сомнений. Однако важно не попасть в ловушку перформативного противоречия запланированной аутентичности — речь не идет о том, чтобы формально заявить, что «конечно, не все идеально». Скорее, необходимо легитимировать критическое обсуждение, для чего требуется, чтобы руководители достоверно внесли свои амбивалентности в дискурс.
Другой вариант заключается в отрицании условия парадокса, что соответствует позиции «Ни один из них». В этом случае можно поставить под сомнение необходимость положительного отношения. В отдельных случаях может быть целесообразно больше полагаться на принятие решений, а не на попытки убеждения. Это не означает, что не следует стремиться к понятности проекта изменений. Change Stories, форматы коммуникации и т.д. могут и должны использоваться, но с другой позицией — как понимание предоставления информационных возможностей, а не как инструменты для вызывания положительных эмоций.
Недоступность социальных отношений vs. необходимость доверительных отношений в руководящей команде
Изменения не делаются в одиночку, поэтому классическое управление изменениями рекомендует вовлекать несколько человек для продвижения изменений (Kotter 2015; Lauer 2019; Schreyögg и Geiger 2024). Говорят о «коалициях» и «критических массах» (Kotter 2015; Schelling 1978). Причины этого заключаются в количестве (критическая масса) и качестве (способности, компетенции, уровни иерархии и отделы) (Kotter 2015, S. 50). В этой коалиции находятся в основном руководители разных уровней иерархии, которые должны продвигать изменения через хорошую коммуникацию, пример для подражания и т.д. Предположение заключается в том, что, с одной стороны, восприятие достаточного числа людей, выступающих за изменения, делает необходимость изменений очевидной, и что, с другой стороны, вероятность успешного принятия таких моделей поведения, способствующих изменениям, выше. Второе предположение заключается в том, что благодаря большей близости руководителей к соответствующим отделам, больше знаний о местном контексте и что близость через социальные отношения скорее способствует изменениям (Kotter 2015, S. 50). Зная о различных интересах и микрополитических играх разных руководителей, центральным ресурсом такой команды является доверие.
Однако организация сталкивается с проблемой, так как доверие в социальных отношениях не может быть просто создано. Для Розы социальные отношения конститутивно недоступны (Rosa 2016, S. 341ff.). Поскольку доверие и симпатия относятся к общей истории, в которой могут развиваться взаимные отношения, ad hoc сформированная руководящая группа кажется непрактичной. Отсюда возникает дилемма для организации: с одной стороны, она должна измерять время и ресурсы скорее коротко, чем долго, и не может позволить себе тратить много времени и ресурсов на изменения. С другой стороны, она зависит от доверия.
Одним из способов преодоления этой парадоксальной ситуации может быть позиция «Оба». Вместо надежды на доверие через «Off-Site-Meetings» или длительный демократический процесс участия, в котором могут выровняться разные цели, желания и надежды, и построиться доверие, рекомендуется вместо этого постоянно отражать социальную недоступность внутри руководящей коалиции и влиять на нее через соответствующие форматы (Kotter 2015, S. 54). Хрупкость социальных отношений при отсутствии или негативной общей истории и различных целей должна быть открыто обсуждена. В зависимости от интенсивности хрупкости в процессе изменений можно предоставить больше или меньше пространства для рефлексии. Этот подход также позволяет гибкую адаптацию, когда, например, процесс изменений уже проявляется как аванс доверия, и «руководящая коалиция» может праздновать успехи, которые вносят взаимные отношения, так что дальнейшие шаги конкретной рефлексии могут занимать меньше места.
Недоступность времени vs. необходимость четких временных рамок в процессах изменений
Третье напряженное поле заключается в временной димензии процессов изменений. Проекты изменений, организованные как проекты, обычно сопровождаются четко определенными временными планами, вехами и сроками. Их необходимость очевидна в крупных организациях уже из формальных логик, лежащих в основе проектов; например, на определенный период устанавливаются бюджеты, которые не могут быть легко расширены или продлены (Heintel и Kranz 2000). Однако даже за пределами формальных ограничений необходимость четких временных рамок для проектов изменений понятна, так как для их легитимации требуется хотя бы базовая временная планировка. Это вряд ли найдет принятие, если, например, будет объявлена реорганизация без указания даты ее завершения.
С другой стороны, недоступность времени, описанная Розой, противостоит попыткам его контроля: время ускользает от прямого управления (Reckwitz и Rosa 2021, S. 271ff.). Это легко применимо к процессам изменений: временные планы на бумаге обычно имеют мало общего с тем, что происходит на самом деле. Это связано с общими подводными камнями классического, водопадного планирования проектов, которые уже были выявлены в дискуссиях о новых методах управления проектами (Collyer и Warren 2009; Levitt 2011). В случае процессов изменений добавляется то, что организации нуждаются во времени для обработки изменений. Практики знают, что временные затраты на диффузию, адаптацию и укоренение изменений не могут быть произвольно сокращены и не могут быть надежно спланированы. Эмпирически это показывает, например, Thomas et al. (2023) через кейс-стади двух процессов пост-слияния.
Таким образом, существует дилемма: временное планирование изменений почти невозможно; однако отказ от временных планов был бы непрактичным, так как они необходимы для легитимации проекта изменений. Выход в духе позиции «Оба» может заключаться в мысленном разделении внешнего представления и внутреннего управления проектом изменений. Это связано с переосмыслением временного планирования: оно больше не рассматривается как управляющий инструмент, а как средство коммуникации для внешнего представления проекта. В то время как наружу определяется временная рамка, внутри проекта допускается временная гибкость. Через коммуникацию временной рамки создается впечатление обоснованного планирования, что успокаивает стейкхолдеров и создает внутреннее пространство. Конечно, этот подход несет риск недостоверности, если коммуницируемая временная планировка и реальные процессы слишком сильно расходятся. Этому можно противостоять, делая коммуницируемые вехи достаточно абстрактными, чтобы в случае необходимости их можно было заполнить различными типами результатов. Примером этого могут быть формулировки типа «Целевая картина»: поскольку объем целевой картины интерпретационно открыт и может варьироваться от нескольких слайдов PowerPoint до детализированных процессов, целевая картина может быть определена как веха с минимальным риском.
Заключение
Из рассмотрений следует, что управление изменениями подвержено внутреннему парадоксу. Поскольку парадоксы имеют трудное положение в организационном мире, требующем ясных ответов, практикам кажется логичным встать на одну из сторон. Однако, как мы показали, ни одна из опций не является самодостаточной. Для консультантов это означает задачу обеспечить адекватное учет обеих сторон парадокса и сделать его рефлексию частью процесса. Это не столько означает предоставление правильных решений для вопросов изменений — таких решений просто не может быть — сколько означает привлечение внимания к недооцененной стороне парадокса. Это может быть достигнуто путем принятия роли advocatus diaboli для недооцененной стороны: если внутренние ответственные ставят все свои надежды на продуманную Change Story, консультант должен указать на ограничения влияния на эмоции; если они хотят отказаться от плановых опорных точек, необходимо подчеркнуть важность временных ориентиров.
Поскольку консультант с таким подходом, как правило, занимает противоположную позицию, требуется активное время отношений, на основе которого можно аналогично раздражать и тем самым обеспечить адекватное учет обеих сторон парадокса. Однако даже если парадокс обрабатывается, он не может быть окончательно разрешен — пути работы с ним никогда полностью не удовлетворяют требованиям обеих сторон. В конечном итоге, управление изменениями неизбежно дефицитно. Это отражается в практическом опыте многих Change-менеджеров, что их часто делают козлами отпущения. Если не происходит ожидаемого эффекта, часто говорят, что «недостаточно хорошо коммуницировалось» или «люди не были взяты на борт». Это можно объяснить нашими рассуждениями: управление изменениями просто не может полностью преуспеть — с самого начала ясно, что что-то останется нерешенным. Роль внешней консультации, с нашей точки зрения, также заключается в предоставлении проекционной поверхности для разочарований ожиданий и, таким образом, защите внутренних Change-менеджеров как от негативных последствий внутри организации, так и от собственной фрустрации. Также необходимо поддерживать внутренних Change-менеджеров в коучинговом режиме в случае почти неизбежных разочарований и неудач и направлять взгляд на успешные моменты. В этом случае описание вышеупомянутых областей напряжения может выполнить функцию разгрузки.