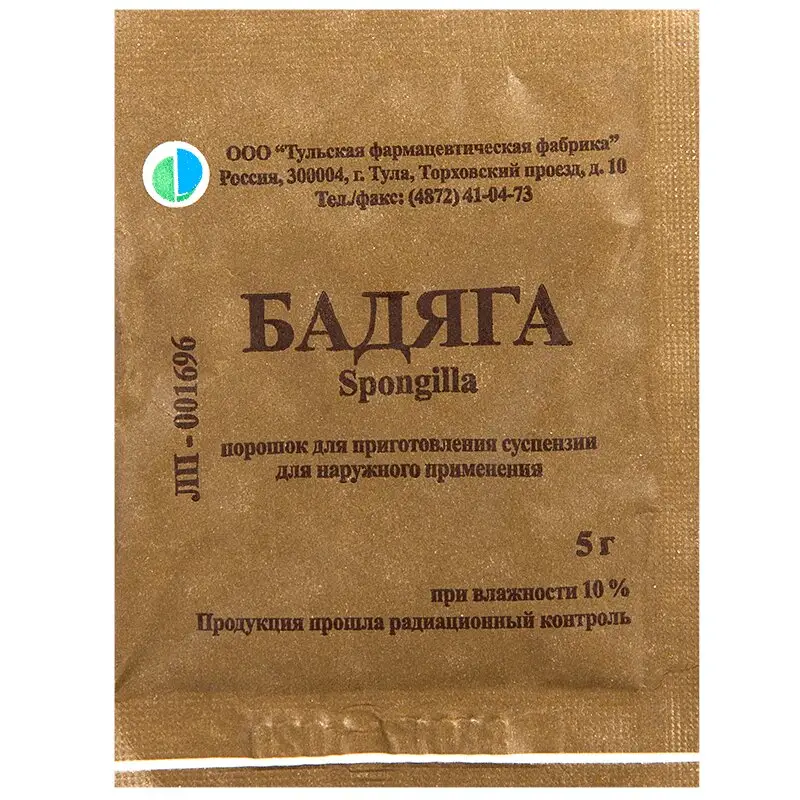Интересное сегодня
ADHD и метод «Боди даблинг»: как повысить продуктивность и с...
Что такое боди даблинг? Боди даблинг — это практика выполнения задач в присутствии другого человека ...
Профили развития детей с расстройством аутического спектра
Введение В 1970 году 1–2 из каждых 10 000 детей были диагностированы с аутизмом, в то время как в 20...
Как внешняя вариативность влияет на обучение новым двигатель...
Внешняя вариативность, но не внутренняя, влияет на поиск синергий при обучении новым двигательным на...
Сексуальная удовлетворенность у выживших после рака: факторы...
Введение С развитием раннего выявления и лечения рака, а также в связи со старением и ростом населен...
Зимние прогулки: Как насладиться сезоном фитнеса
Если вы беспокоитесь о своем здоровье этой зимой, Ларисса Чепмен поможет вам надеть свои ботинки для...
Исследование распознавания китайских иероглифов: Проект Лекс...
introductionВ последние 15 лет мегаисследования значительно увеличили доступность данных о распознав...
Понимание поведенческих моделей привязанности у родителей, воспитывающих детей с аутизмом
Воспитание детей с аутизмом представляет собой уникальный опыт, отличающийся от воспитания нейротипичных детей. Это связано с преодолением социальных барьеров, ограниченными системами поддержки и факторами окружающей среды, которые могут не соответствовать нейроотличиям (Bradley et al., 2023; Buchwald et al., 2025; Gao & Drani, 2025; Saccà et al., 2019). Семейная динамика развивается по мере адаптации семьи к разнообразным потребностям ребенка в общении, сенсорном восприятии и отношениях в условиях, часто ориентированных в первую очередь на нейротипичные нормы. Предыдущие исследования неточно трактовали поведенческие модели аутичных детей как дефициты, негативно влияющие на привязанность (Cibralic et al., 2024; McKenzie & Dallos, 2017). Однако современные исследования подчеркивают, что аутичные дети полностью способны формировать прочные, значимые привязанности и явно демонстрируют предпочтение знакомым опекунам (Lee et al., 2024; Teague et al., 2018). Эти результаты привязанности тесно связаны с родительской чувствительностью, проницательностью и соответствием окружающей среды (CossetteCôté et al., 2021; Lee et al., 2024).
Несмотря на растущее понимание, большая часть существующих исследований фокусировалась на поведении аутичных детей, не изучая, как сами опекуны воспринимают и интерпретируют эту динамику привязанности. Данное исследование направлено на устранение этого пробела путем сосредоточения на реальном опыте родителей аутичных детей, уделяя особое внимание тому, как они ориентируются, интерпретируют и адаптируются к моделям привязанности в контексте нейроотличия. Используя феноменологический подход, данное исследование изучает, как родители воспринимают свою роль опекуна, какие трудности и адаптации они предпринимают, и как привязанность разворачивается в этих сложных системах отношений.
Опыт родителей в динамике привязанности
Согласно Боулби (1969), система поведенческих моделей привязанности — это система поведения, направленная на поддержание близости с важным другим (фигурой привязанности) для безопасности и связи, и она приводит к предсказуемым результатам, хотя преобладающее поведение может варьироваться в разных культурах. Аналогично, Боулби (1984) предположил, что система заботливого поведения — это инстинктивный набор действий, которые опекуны проявляют для защиты своих детей и содействия близости и комфорту, когда ребенок выражает потребность в связи или безопасности (Cassidy & Shaver, 2016). Действия по уходу, такие как принесение, зов, успокаивание, укачивание и кормление, можно рассматривать как биологически заложенные стратегии отношений, способствующие связи и эмоциональной регуляции, улучшающие благополучие и выживание ребенка (Cassidy & Shaver, 2016).
Степень, в которой ребенок ищет близости со своим опекуном, варьируется в зависимости от внутренних и внешних условий. Боулби (1969) предположил, что система привязанности активируется двумя основными факторами: (а) внутреннее состояние ребенка (например, болезнь, усталость или эмоциональный дистресс) и (б) условия окружающей среды, сигнализирующие о потенциальной угрозе или разлуке, такие как незнакомая обстановка или отсутствие опекуна. Аналогично, система заботы у взрослых активируется сигналами, предполагающими, что ребенок может нуждаться в поддержке. Внутренние сигналы для опекунов могут включать эмоциональные реакции, такие как беспокойство или эмпатия, или культурно обусловленные убеждения о воспитании (Cassidy & Shaver, 2016). Внешние сигналы часто включают наблюдаемые признаки дистресса ребенка, такие как плач, уход в себя или цепляние, а также контекстуальные факторы, такие как опасность в окружающей среде или нарушение рутины (Cassidy & Shaver, 2016). Это взаимодействие между сигналами ребенка и интерпретацией этих сигналов опекуном составляет ядро динамики заботы и привязанности.
Боулби (1969) считал, что поведение привязанности прекращается, когда потребности ребенка в привязанности удовлетворены. Реакция опекуна может варьироваться в зависимости от интенсивности сигналов привязанности ребенка. Например, когда ребенок испытывает легкий дистресс, простое присутствие рядом или спокойный тон голоса могут обеспечить достаточное утешение. Однако, если ребенок испытывает сильный дистресс, опекуну может потребоваться увеличить близость или предпринять активные шаги для совместной регуляции и обеспечения безопасности (Cassidy & Shaver, 2016). Опекуны постоянно отслеживают и оценивают сигналы отношений и окружающей среды, чтобы эффективно заботиться о ребенке (O’Neill et al., 2021; Tsotsi et al., 2018).
Боулби (1969, 1988) описывал системы заботы и привязанности как взаимодополняющие и в идеале функционирующие синхронно. Примером может служить совместное стремление поддерживать комфортную степень близости — например, опекун мягко возвращает ушедшего ребенка или ребенок протягивает руку для связи, когда опекун отходит (Cassidy & Shaver, 2016). Боулби (1969) предположил, что активация собственной системы привязанности опекуна — особенно во время горя, травмы или неуверенности — может препятствовать его способности к уходу. Например, опекун, переживающий личную потерю или неразрешенные проблемы привязанности, может испытывать трудности с постоянной чуткостью к потребностям ребенка (Laflamme et al., 2022). Неуверенные стили привязанности у опекунов связаны с трудностями в уходе, особенно в условиях стресса, из-за тенденции либо перегружаться, либо отстраняться как стратегии совладания (Giannotti et al., 2023; McIntosh et al., 2023).
Ключевым моментом является то, что Боулби (1969) подчеркивал, что безопасность привязанности формируется тем, как опекуны реагируют на запросы ребенка на связь. Когда опекуны последовательно и надежно подтверждают и реагируют как на позитивные, так и на сложные эмоции, дети с большей вероятностью развивают безопасные модели привязанности (Kohlhoff et al., 2022). И наоборот, когда дети начинают ожидать непоследовательных, недоступных или угрожающих реакций от опекунов, могут возникнуть неуверенные модели привязанности (Bowlby, 1969; Kohlhoff et al., 2022).
Чувствительность опекуна играет центральную роль в этой динамике. Кэссиди и др. (2013) описали, как поведение детей, часто воспринимаемое как «детское» (например, плач, лепет), является эффективным инструментом для сигнализации потребности в поддержке и совместной регуляции. Опекуны, в свою очередь, часто используют интуитивные сигналы, такие как выражение лица, тон голоса и жесты, для создания безопасности и связи (Ainsworth, 1989). Эти тонкие, взаимные взаимодействия строят ткань отношений, из которой формируется чувство безопасности ребенка. Таким образом, чувствительность — это не фиксированная черта, а непрерывный, ответный процесс, отражающий способность опекуна встречать ребенка там, где он находится. Когда опекуны могут настроиться и реагировать на уникальные способы ребенка выражать потребность в безопасности и связи, может быть совместно создан фундамент для безопасной привязанности (Ainsworth, 1989; Cassidy et al., 2013).
Современные нейробиологические исследования подтвердили многое из того, что Боулби и Эйнсворт первоначально теоретизировали о процессах привязанности. Достижения в области аффективной нейронауки демонстрируют динамичное, двунаправленное взаимодействие между нервной системой ребенка и опекуна, где совместная регуляция происходит посредством тонких сдвигов тона, выражения лица и физиологического возбуждения. Например, исследования физиологической синхронии между опекуном и ребенком (например, сердечный ритм, связь вегетативной нервной системы) показали, что большая синхрония связана с лучшими результатами регуляции у детей (DePasquale, 2020). Исследования нейровизуализации и гипосканирования далее предполагают, что синхрония от мозга к мозгу возникает во время взаимодействия, что укрепляет мысль о том, что привязанность — это не просто поведенческая или эмоциональная, но глубоко воплощенная сущность, что особенно актуально при рассмотрении нейроотличных сенсорных и регуляторных различий.
Связь привязанности
Связь привязанности — это аффективная связь между одним человеком и его фигурой привязанности (Ali et al., 2021). Эйнсворт (1989) описала связи привязанности как устойчивые и включающие конкретную фигуру, которую нельзя заменить кем-либо другим. Она также описала эти связи как эмоционально значимые и являющиеся причиной желания человека поддерживать близость со своей фигурой привязанности и испытывать дистресс при непроизвольном разлучении (Ainsworth, 1989). Важно отметить, что наличие связи привязанности не зависит исключительно от наблюдаемого поведения привязанности. Дети могут не проявлять поведения, направленного на поиск близости, если их потребности в привязанности удовлетворены, и они чувствуют постоянное чувство безопасности. Другими словами, связь привязанности ребенка может быть сильной даже при отсутствии явного поведения, такого как плач или цепляние (Ali et al., 2021). Боулби (1969) предположил, что стабильность и непрерывность связи привязанности с течением времени не обязательно коррелирует с безопасностью привязанности. Для некоторых детей цепляние может отражать безопасную опору на опекуна как на безопасную базу, а не признак неуверенности или проблем в отношениях. Безопасность привязанности отражает качество отношений, а не только интенсивность поведения. Хотя большая часть теоретической основы связей привязанности исходит из исследований в неаутичных контекстах отношений, суть связи, включая эмоциональную значимость, отзывчивость опекуна и последовательность отношений, остается актуальной для нейроотличных детей.
Аутизм и привязанность
Ранние исследования предполагали, что аутичные дети реагируют на разлуку с опекуном так же, как и неаутичные дети (Bieberich & Morgan, 1998; Mundy & Sigman, 1989); однако другие исследования исторически характеризовали аутичных детей как имеющих более низкую чувствительность или отзывчивость к подходам опекунов (Rutgers et al., 2007; van Ijzendoorn et al., 2007), часто интерпретируя это поведение через призму дефицита. Более свежие исследования признают, что такие интерпретации могут отражать предвзятость и недооценку нейроотличных выражений отношений (Lee et al., 2024).
Хотя аутичные дети могут формировать прочные привязанности, их особенности общения и сенсорного восприятия могут влиять на то, как эти связи выражаются и понимаются. В то время как способности к привязанности проявляются во всем спектре аутизма, способы проявления поведения привязанности могут значительно различаться в зависимости от стилей общения, сенсорных профилей и контекстуальной поддержки. Исследования, изучающие различия по уровням тяжести аутизма, дали смешанные результаты. Например, Cibralic et al. (2024) обнаружили, что более высокие уровни аутичных черт связаны с большей вероятностью дезорганизованной привязанности, хотя авторы отмечают, что это поведение может отражать различия в общении, а не истинное отсутствие безопасности. Напротив, CossetteCôté et al. (2021) продемонстрировали, что родительская чувствительность остается сильным предиктором безопасности привязанности у аутичных детей, независимо от степени тяжести симптомов. Teague et al. (2018) также пришли к выводу, что аутичные дети формируют привязанности с частотой, сравнимой с неаутичными сверстниками, и что доказательства систематических различий по уровню поддержки ограничены. В совокупности эти исследования предполагают, что изменчивость выражения привязанности в спектре лучше всего понимать через призму отношений, которая учитывает, как потребности в поддержке, окружающая среда и интерпретация сигналов взаимодействуют, формируя опыт привязанности.
Отношения между родителями и детьми, включающие аутичных детей, могут отличаться по чувствительности, гибкости и синхронии не из-за дефицита отношений, а из-за несоответствия между выражениями связи и нейротипичными ожиданиями (Beurkens et al., 2013). Недавние исследования подтверждают, что недостаточная социальная поддержка или структурные барьеры связаны с повышенным стрессом родителей у аутичных детей, негативно влияя на доступность в отношениях и способность к уходу (Brennan & Davis, 2025; Kapp & Brown, 2011). Поскольку привязанность двунаправленна, ключевую роль играют как модели общения ребенка, так и отзывчивость опекуна (Giannotti et al., 2023; Lee et al., 2024).
Исследования аутизма и привязанности преимущественно опирались на рамки, разработанные для нейротипичных пар, особенно на процедуру «Незнакомая ситуация» (Strange Situation) (Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1969) как основной инструмент оценки. Эти инструменты могут недостаточно точно отражать привязанность у аутичных детей, чье поведение может не соответствовать традиционным классификациям (Teague et al., 2018). Более того, исследования часто объединяют аутичных детей с детьми с другими нарушениями развития, что затрудняет различение уникальных отношений в рамках аутизма. Это ставит вопрос о том, действительно ли имеющиеся результаты исследований отражают уникальный опыт родителей, имеющих аутичных детей. Таким образом, целью данного феноменологического исследования является изучение реального опыта родителей, воспитывающих аутичных детей, в отношении динамики привязанности. Более конкретно, вопрос, которым руководствуется данное исследование: Каков реальный опыт родителей аутичных детей в отношении их поведения привязанности?
Методы
Поскольку целью данного качественного исследования было охватить реальный опыт родителей, в качестве методологии был выбран интерпретативный феноменологический анализ (Interpretative Phenomenological Analysis - IPA). IPA описывается как индуктивный подход, который наделяет участников силой быть экспертами в своем собственном опыте, в то время как исследователи интерпретируют, как формируется смысл (Howard et al., 2019; O’Brien et al., 2014). Фундаментальный принцип феноменологии можно проследить до Эдмунда Гуссерля, который считал, что человеческий опыт должен рассматриваться на своих собственных условиях (Smith et al., 2022). Важно отметить, что новые применения IPA в исследованиях аутизма и ухода подчеркивают его сильные стороны в усилении голосов маргинализированных групп и уважении к расширению прав и возможностей, рефлексивности и контексту отношений (Howard et al., 2019).
Участники
В данном исследовании приняли участие десять родителей, отвечающих следующим критериям включения: (а) возраст не менее 18 лет на момент исследования; (б) быть основным опекуном ребенка с официальным диагнозом расстройства аутистического спектра или предыдущими диагнозами расстройства общего развития или синдрома Аспергера; и (в) быть способным и готовым предоставить информированное согласие. Уровни поддержки (т.е. Уровни 1–3) основывались на отчетах родителей и, по возможности, подтверждались диагностическими или образовательными отчетами. Этот подход обеспечил контекстное понимание реального опыта каждой семьи, сохраняя при этом соответствие описаниям потребностей в поддержке при аутизме согласно DSM-5.
Участники были набраны с использованием целенаправленной выборки, чтобы гарантировать, что каждый опекун имел реальный опыт воспитания аутичного ребенка и основные обязанности по уходу. Участники были набраны посредством различных общественных и онлайн-кампаний, ориентированных на сообщество аутизма. Рекламные материалы распространялись через страницы в социальных сетях и онлайн-группы, специально предназначенные для опекунов аутичных детей. Также были распространены листовки в местных амбулаторных клиниках психического здоровья и психиатрии в Сан-Диего, Калифорния. Затем использовалась снежный ком метод в сетях опекунов аутичных детей для приглашения дополнительных участников. Все участники проживали в Соединенных Штатах на момент участия. Демографические характеристики участников представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Демографические характеристики участников
В общей сложности десять родителей сообщили, что заботятся о 24 детях, 14 из которых имели официальный диагноз аутизма. Дополнительные сведения о демографии и диагнозах детей приведены в Таблице 2.
Таблица 2. Характеристики детей
Процедура
Сбор данных для исследования проводился с использованием полуструктурированного интервью и демографической анкеты после одобрения Комитетом по этике (Institutional Review Board - IRB) в университете, к которому были аффилированы авторы. Интервью проводились лично, записывались на аудио и транскрибировались. Для опекунов, воспитывающих более одного аутичного ребенка, интервью включали обсуждение их опыта с каждым ребенком индивидуально. Этот подход позволил исследовать как специфические для ребенка динамики, так и общий реальный опыт опекуна по воспитанию нескольких аутичных детей. Данные анализировались таким образом, чтобы сохранить эти двойные уровни (т.е. уникальный диадный опыт и целостное видение опекуна). После интервью участники получили подарочную карту на 25 долларов и список ресурсов, решающих проблемы, с которыми часто сталкиваются родители аутичных детей.
Анализ данных
Данные анализировались с использованием интерпретативного феноменологического анализа (IPA), описанного Смитом и др. (2022). Первый автор следовал четырехэтапному аналитическому процессу: чтение и перечитывание для погружения, первоначальное заметки, разработка возникающих тем и выявление связей между темами. Во время погружения исследователь глубоко погружался в каждую транскрипцию, делая описательные, лингвистические и концептуальные наблюдения. Описательные заметки фокусировались на содержании, лингвистические — на таких особенностях, как тон и метафора, а концептуальные заметки отражали интерпретивное создание смысла. Эти заметки способствовали возникновению тем, которые отражали ключевые аспекты реального опыта каждого участника. Затем темы изучались на предмет закономерностей и группировались в надординатные структуры, отражающие общие смыслы. Аналитический процесс был итеративным и рефлексивным, в соответствии с идиографической и интерпретативной ориентацией IPA.
Достоверность
Для обеспечения строгости и целостности данного качественного исследования применялись четыре критерия: достоверность, переносимость, надежность и подтверждаемость (Korstjens & Moser, 2018). Достоверность поддерживалась посредством рецензирования коллегами и проверки членами выборки (Nowell et al., 2017). Первый автор регулярно проводил рецензирование с двумя коллегами на протяжении всего аналитического процесса. Эти рецензенты предоставляли внешние перспективы по возникающим и окончательным темам, способствуя рефлексивности и снижая потенциальную предвзятость. Шесть участников ответили на приглашение проверить членство, чтобы просмотреть резюме возникающих тем исследования и оценить, отражают ли интерпретации их опыт.
Переносимость была улучшена благодаря подробному описанию контекста исследования, опыта участников и аналитических решений, что позволило читателям оценить релевантность результатов для других условий (Korstjens & Moser, 2018). Хотя данное исследование фокусируется на родителях аутичных детей, разнообразие спектра аутизма означает, что результаты могут не относиться ко всем семьям, и эта изменчивость признается в интерпретации. Надежность обеспечивалась путем ведения журнала аудита, документирующего аналитические решения, разработку кодирования и методологические размышления. Этот процесс обеспечил прозрачность в том, как данные интерпретировались с течением времени. Подтверждаемость облегчалась посредством рефлексивного ведения дневника и внешней проверки вторым автором, обеспечивая, что результаты основаны на данных участников, а не на предположениях исследователя (Korstjens & Moser, 2018; Nowell et al., 2017). Эти стратегии соответствуют современным передовым практикам обеспечения достоверности в феноменологических исследованиях и исследованиях IPA, отражая приверженность строгому, этичному и поддерживающему нейроразнообразие качественному исследованию (Howard et al., 2019; MacLeod, 2019).
Этико-правовые аспекты
Основные этические соображения включали благополучие участников, информированное согласие на участие в исследовании и конфиденциальность. Участникам предоставлялась возможность задавать вопросы или отказаться от участия в любое время до, во время или после исследования. Конфиденциальность участников поддерживалась на протяжении всего исследования путем безопасного хранения идентифицируемых данных, анонимизации транскриптов и использования псевдонимов в отчетах об исследовании.
Результаты
Из данных выделилось семь надординатных тем: (а) отсутствие системы отсчета для родительства, (б) неопределенность будущего ребенка, (в) связь привязанности, (г) эмоции родителей по отношению к своему ребенку, (д) поведение привязанности, (е) разлука и воссоединение, и (ж) другие факторы, влияющие на динамику привязанности. Более ранние темы (т.е. а–г) отражали контекстуальный и основополагающий опыт, который формировал эти процессы, связанные с привязанностью, но не были глубоко исследованы в данной статье из-за ограничений по объему. Данный анализ фокусируется на поведении привязанности, разлуке и воссоединении, а также на других факторах, влияющих на динамику привязанности, которые вместе отражают наиболее значимые для реального опыта опекунов отношения и регуляторные динамики. Полное описание всех семи тем см. в McGuire (2020). Для дополнительного обсуждения эмоциональных аспектов динамики привязанности обращайтесь к готовящимся или связанным публикациям данной исследовательской группы.
Поведение привязанности
Эта тема отражает способы, которыми опекуны реагировали на запросы ребенка на привязанность — те моменты, когда ребенок искал связи, утешения или регуляции. В данном исследовании поведение привязанности концептуализировалось как чуткие реакции опекуна, которые передают безопасность и эмоциональную доступность, будь то через физическую близость, эмоциональное заверение или сенсорно-ориентированные адаптации. Например, когда родители описывали использование таких вспомогательных средств, как утяжеленные одеяла, игрушки-помощники или визуальные опоры, эти действия интерпретировались как поведение привязанности, поскольку они представляли собой усилия по удовлетворению потребностей ребенка в отношениях и регуляции посредством материальных средств. Каждая подтема, следующая ниже, отражает отдельный аспект отзывчивости и чувствительности опекуна к сигналам привязанности ребенка.
Все 10 участников сообщили, что настраивались на своего ребенка различными способами, чтобы предвидеть и понимать его потребности. Из 14 аутичных детей, родители которых были включены в данное исследование, четверо использовали вербальную речь для выражения своих чувств и потребностей, а десять были невербальными или минимально говорящими, как описали участники. Следующие три подтемы возникли из данных: гиперсознательность сигналов, понимание сигналов/потребностей ребенка и использование дополнительных средств.
Восемь участников описали постоянную гиперсознательность, чтобы распознавать сигналы своего ребенка. Эта подтема отражает постоянную бдительность опекуна в предвидении потребностей в привязанности до их эскалации, как часть усилий по поддержанию связи и предотвращению дистресса. Родители часто описывали постоянную бдительность по отношению к сигналам, поведению и эмоциональным состояниям своего ребенка. Хотя некоторые опекуны сами использовали термин «гиперсознательный», другие описывали себя как «всегда начеку» или «постоянно настроенные» на потребности своего ребенка. Таким образом, термин «гиперсознательный» используется здесь для отражения этого коллективного опыта повышенного мониторинга и чувствительности, который развился за годы интерпретации тонких сигналов и предвидения потенциального дистресса. Некоторые сообщали о внимательном наблюдении за своими детьми из-за опасений по поводу безопасности, поскольку их дети не обращались за помощью и не предупреждали их, когда были ранены. Другие были сосредоточены на лучшем понимании своего ребенка. Несколько опекунов отметили ограниченное поведение детей, направленное на поиск помощи, даже в стрессовых или рискованных ситуациях, таких как побеги или самоповреждение, которые часто происходили без явных сигналов и повышали бдительность опекунов. Дебора поделилась, что хотела больше узнать о своем сыне, поэтому она наблюдала за ним часами, пытаясь его понять. Она сообщила:
«Это как будто я постоянно наблюдаю за ним и пытаюсь понять, совпадают ли его слова с тем, что он чувствует. Я чувствую, что у него целый мир происходит внутри головы, до которого я не могу добраться. Это как будто я жду секретный код. Я жду ключ от этого кода, чтобы сказать: «Вот что это значит». И тогда это откроет целый мир вещей, которые он пытается сказать, но я не могу понять.»
Все 10 участников сообщили, что способны предвидеть, когда их ребенок начнет испытывать дистресс. Участники обсуждали обращение как к прямым вербальным, так и к невербальным сигналам (например, крики, звуки, выражение лица, язык тела и т. д.) для интерпретации того, что ребенок нуждался от них. Усилия родителей по адаптации стилей общения демонстрируют отзывчивость на сигналы привязанности ребенка, обеспечивая доступность и взаимное понимание. По словам Люсиль, она будет ждать, чтобы услышать птичий крик, так как птицы — это предпочтительный интерес ее сына. Она сообщила, что птичьи крики являются сигналом того, может ли он сам найти решение своей проблемы или ему нужна помощь. Она заявила:
«Он много издает птичьи крики, он умеет имитировать чайку или ворону… Так что я знаю, когда он немного кричит. Вы слышите эскалацию. Так что, если мы вне комнаты, и он и его брат ввязываются в это, я могу [оценить] эскалацию того, к чему это приведет.»
Три участника сообщили, что используют дополнительные средства для получения сигналов от своих детей. Использование сенсорных или визуальных средств представляло собой материальную форму чувствительности, позволяющую опекунам удовлетворять потребности ребенка в безопасности и регуляции посредством внешней и физической поддержки. Эти средства включают: доску для письма, датчики, сигнализацию и социальные истории. Участники, чьи дети склонны покидать дом, сообщили об использовании таких инструментов, как дверные датчики или двойные замки, чтобы помочь им сосредоточиться на других задачах, оставаясь в курсе местонахождения своего ребенка.
Мэри, чья невербальная дочь пробовала различные коммуникационные средства, включая речевую терапию, которая оказалась неэффективной, поделилась, что ее сын теперь хорошо общается с помощью доски для письма. Хотя общение дома в основном касается повседневных потребностей, он предпочитает более глубокие беседы со своим специалистом по общению, который помогает ему освоить доску для письма. Мэри считает, что специалист лучше понимает ее сына, поскольку он более комфортно отвечает на открытые вопросы с ним, чем с семьей. Она описала облегчение от того, что наконец-то поняла потребности своего сына.
«Это как когда вы имеете дело с новорожденным ребенком, и вы просто не знаете, чего он хочет, но подумайте об этом в течение 15 лет. Я уверена, для него это было еще более frustrating, что он не мог передать, когда он чего-то не хотел, а мы просто навязывали ему вещи: «Ты получишь банан, хочешь ты этого или нет». Это как будто наконец-то он может сказать: «Я не хочу этого».»
Разлука и воссоединение
Хотя участники были основными опекунами своих детей, были моменты, когда они были временно разлучены с детьми (например, дети были в школе или находились под присмотром вторичного опекуна). Три подтемы возникли в отношении опыта родителей во время разлуки и воссоединения: временное облегчение во время разлуки, тревога по поводу разлуки и облегчение и радость во время воссоединения.
Пять участников сообщили о немедленном чувстве облегчения во время разлуки с ребенком, поскольку они могли заниматься обязанностями, которые они не могли выполнить, пока заботились о своем ребенке. На вопрос о том, какова разлука с ребенком, Бренда заявила:
«Облегчение. Мне нравится садиться в машину и просто ехать в Target, покупать бензин, делать для себя дела. Просто мир. Я все еще буду беспокоиться о нем, но это немедленное чувство необходимости справиться с любым кризисом, который происходит в данный момент, ощущается [хорошо]. Кто-то другой может справиться с этим за меня, [учитель] может справиться, или инструктор по плаванию может справиться. Просто чувство облегчения.»
Девять участников сообщили об усилении и чрезмерном беспокойстве по поводу того, будет ли о их ребенке адекватно позабочено, не попал ли он в беду, или опасений относительно безопасности во время разлуки с ребенком. Стейси вспомнила свой опыт после того, как отвела ребенка в школу:
«Я просто ждала звонка или письма от его учителя, или просто волновалась. Я волнуюсь о том, что он [сделает] сегодня; будут ли у него проблемы? или какое поведение помешает ему выполнять школьную работу? Будет ли у него конфликт с другими детьми? Когда звонит телефон, и там [название школы], я просто задерживаю дыхание и думаю: «Пожалуйста, только не что-нибудь плохое».»
Семь участников сообщили об облегчении при воссоединении с ребенком, поскольку они были рады, что ребенок благополучно вернулся домой. Все 10 участников сообщили о радости при воссоединении со своим ребенком, несмотря на то, насколько трудным мог быть день. Дебора, мать двух аутичных детей, описала свой опыт забирания детей из школы:
«Когда я воссоединяюсь с ними, это облегчение. Облегчение и счастье. Это было всего три часа, и днем вы ждали, чтобы увидеть, как класс идет по углу туда, где были родители. И я не осознавала этого, но я начинала задерживать дыхание. И когда я увидела, как они показались из-за угла, это было такое чувство: «О боже, мы сделали это снова. О боже, мы продержались еще один день».»
Другие факторы, влияющие на динамику привязанности
Две подтемы возникли из данных как факторы, влияющие на динамику привязанности между родителем и ребенком: выгорание и стресс, а также конфликт в со-воспитании.
Семь участников сообщили об опыте выгорания и чрезмерного стресса от воспитания своего аутичного ребенка, поскольку они не имели поддержки со стороны общества или семьи. Участники отметили, что выгорание влияет на их способность проявлять привязанность к ребенку и настраиваться на его потребности. Трое из семи участников сообщили, что чувствуют себя перегруженными и выразили желание, чтобы их отношения были проще. Участники объяснили, что они могут быть «резкими» или легко раздражаться на своих детей, когда находятся в стрессе. Эти участники сообщили, что хотели бы, чтобы их дети воспринимали их как более «веселых» и «любящих». Только два участника сообщили о получении услуг в области психического здоровья для себя. Этот опыт можно суммировать заявлением Бренды:
«Я хотела бы быть более веселой. Я хочу быть более веселой. Я хочу больше веселиться с воспитанием детей. Есть часть воспитания детей, которая, как я думала, должна быть веселой или, по крайней мере, полезной.»
Шесть участников сообщили о проблемах в со-воспитании с их супругом или партнером. Участники часто упоминали, что их различные стратегии воспитания создавали трудности в их отношениях с детьми. Бренда обсуждала свои эмоции по поводу того, что ее сын ближе к отцу, чем к ней, из-за их конфликта в воспитании:
«Я дисциплинарий в семье. Мой муж на самом деле не дисциплинирует, поэтому я та, кто устанавливает правила, и он (ее сын) часто расстраивается на меня. Много борьбы. Поэтому я не предпочтительный родитель. Я та, кто устанавливает пределы и границы, и я думаю, однажды он это оценит. Но сейчас, когда я забираю его из школы, [он говорит]: «Я хочу, чтобы папа меня забрал. Я не хотел, чтобы ты приходила». Это ранит меня, и мое сердце разбито, но я понимаю, что это та роль, которую я играю, и я смирилась с этим.»
Участники, которые были не женаты или разведены, сообщили о проблемах, специфичных для них, таких как жизнь в смешанной семье, разногласия по поводу лечения и осложнения с совместной опекой. Эти участники также являются теми, кто сообщил о беспокойстве во время разлуки с ребенком, поскольку они не уверены, скажет или сделает ли их партнер что-либо, что может негативно повлиять на их отношения с ребенком.
Несмотря на трудности, с которыми столкнулись участники в воспитании аутичного ребенка, их основные задачи по уходу остаются верными теории привязанности, хотя и с некоторыми модификациями. Участники описывали, что предоставляют любовь и заботу своему ребенку. Одновременно участники сохраняли уровень бдительности, чтобы не упустить сигналы своего ребенка, при этом некоторым требовались конкретные средства (например, датчики, доска для письма), если их дети имели ограниченные коммуникативные навыки или не всегда предоставляли сигналы. Родителям приходилось адаптироваться и учиться новым навыкам, чтобы сохранить свою роль эффективного опекуна для своих детей.
Разлука и воссоединение между родителем и ребенком давно понимаются через призму привязанности. Эмоции и действия, возникающие в результате разлуки и воссоединения, дают представление о связи между диадой. В данном исследовании участники сообщили о немедленном чувстве облегчения во время разлуки с ребенком, поскольку они были чрезмерно загружены своей ролью опекуна. Они сообщили, что испытывают вину за покой и умиротворение, которые они чувствовали; однако время, проведенное вдали от ребенка, использовалось для восстановления сил как физически, так и эмоционально, а также для выполнения необходимых задач (например, планирование дня, выполнение поручений). Участники с детьми, требующими более высокого уровня поддержки (например, мониторинг безопасности, постоянное поведенческое наблюдение), сообщили о беспокойстве во время разлуки.
Наконец, родительский стресс/выгорание и конфликт в со-воспитании были другими факторами, влияющими на динамику привязанности. Возросшие требования, предъявляемые к родителям аутичных детей, привели к ограниченной способности родителей проявлять привязанность. Ежедневные трудности истощали их эмоциональные ресурсы, оставляя участников желающими быть более веселыми и любящими по отношению к своим детям. Участники, чьи стили воспитания или мнения о воспитании ребенка с аутизмом отличались от мнений их партнера, обнаружили, что это разногласие негативно сказалось на их связи с детьми. Эти трудности возникают из-за таких проблем, как фаворитизм ребенка по отношению к другому родителю или разногласия по поводу дисциплины. Трудности в родительской подсистеме также играют роль в их доступности и отзывчивости как опекунов.
Обсуждение
Поведение привязанности
В контексте поведения привязанности выделились три подтемы: гиперсознательность сигналов, интерпретация потребностей ребенка и использование дополнительных средств. В теории привязанности поведение, направленное на поиск близости с фигурой привязанности, служит для сигнализации эмоциональных или физических потребностей (Bowlby, 1969). Участники данного исследования описали различные стратегии, которые они использовали для распознавания и интерпретации уникальных выражений привязанности своего ребенка, многие из которых были тонкими, идиосинкразическими или легко упускаемыми другими. Участники сообщали о высокой степени настройки на поведение ребенка, часто внимательно отслеживая изменения в тоне, аффекте или движении, особенно в отношении десяти детей, описанных участниками как невербальные или минимально говорящие. Многие описывали необходимость оставаться сосредоточенными в течение дня, отмечая, что пропуск даже одного небольшого сигнала мог означать упущение потребности или момента дистресса. В то время как система заботливого поведения обычно активируется в ответ на поведение ребенка, направленное на поиск близости (Bowlby, 1988), эти результаты показывают, что активация системы заботливого поведения у родителей аутичных детей кажется постоянной и проактивной. По сравнению с описаниями системы заботы в общей литературе по привязанности, которая обычно подчеркивает активацию в ответ на дистресс ребенка или воспринимаемую угрозу (например, Mikulincer & Shaver, 2016), эти опекуны, казалось, испытывали более постоянное состояние бдительности. Многие родители описывали сохранение бдительности даже в спокойные или рутинные моменты, отслеживая сенсорные триггеры и предвидя дисрегуляцию до ее возникновения. Как частота, так и предвосхищающий характер активации наблюдались и сообщались опекунами в данном исследовании.
Все участники сообщали о понимании потребностей своего ребенка, даже когда сигналы были тонкими или нетрадиционными. Система заботливого поведения активируется под влиянием поведения привязанности ребенка, но опекун также должен быть способен настроиться и быть отзывчивым к ребенку (Ainsworth, 1989). Участники сообщали о способности делать выводы из выражений лиц, тона голоса или моделей поведения своих детей, которые могут быть не поняты другими. Это понимание исходило не только из инстинкта, но и из глубокой эмоциональной вовлеченности, наблюдения и целенаправленной адаптации. Участники подчеркивали, что их чувствительность развивалась со временем, а не была предположена, и требовала постоянных усилий и эмоционального труда. Настройка на потребности детей важна для установления чувства безопасности (Ainsworth, 1989). Кроме того, участники сообщали, что их способность понимать идиосинкразические и своеобразные сигналы своего ребенка также ограничивает способность других оказывать поддержку в задачах по уходу, таких как временные работники по уходу или расширенные члены семьи. Многие описывали изучение уникального стиля общения своего ребенка посредством повторения и тесной связи. Хотя это было эффективно для основного опекуна, это понимание было трудно передать другим. В результате участники выразили обеспокоенность тем, что расширенные члены семьи или временные работники по уходу часто испытывали трудности с интерпретацией сигналов своего ребенка, что ограничивало возможности для совместного ухода и способствовало стрессу и выгоранию опекунов.
Хотя все опекуны должны корректировать свою настройку, чтобы удовлетворять уникальные темпераменты и потребности своих детей, настройка, описанная родителями в данном исследовании, отличалась как по качеству, так и по интенсивности. Вместо того чтобы просто реагировать на отличительные предпочтения или личности, опекуны аутичных детей описывали процесс настройки, который требовал декодирования нетрадиционных сигналов, отслеживания сенсорной среды и поддержания регуляции в контекстах, которые обычно не вызывали бы такой бдительности. Другими словами, настройка была не только индивидуализирована, но и переводилась через сенсорные, коммуникативные и эмоциональные различия. Эта форма настройки требовала как креативности, так и постоянства, часто опираясь на вспомогательные средства и адаптации окружающей среды для поддержания связи.
Участники, чьи дети имели высокие потребности в поддержке и ограниченные вербальные навыки общения, также описывали использование вспомогательных средств для преодоления коммуникативных барьеров и повышения безопасности. К ним относились датчики движения на дверях, визуальные средства коммуникации и вспомогательные системы, такие как доски для письма. Эти ресурсы позволяли опекунам выполнять свою роль безопасной базы и надежного убежища творческими и индивидуализированными способами. Важно отметить, что эти адаптации не рассматривались как показатели дефицита, а как значимые продолжения отношений ухода. Родительская настройка при аутизме часто является результатом целенаправленного, основанного на проницательности взаимодействия, а не предполагаемой интуиции, отражая приверженность опекуна пониманию уникальных способов связи и общения своего ребенка (Di Renzo et al., 2020). Благодаря терпеливому наблюдению и приверженности отношениям, участники данного исследования развили тонкое понимание потребностей и сигналов своих детей. Эти результаты подтверждают, что безопасная привязанность возможна и значима в нейроотличных отношениях ухода при поддержке целенаправленной настройки и отзывчивой среды.
Разлука и воссоединение
Результаты выявили три подтемы в рамках разлуки и воссоединения: временное облегчение во время разлуки, родительская тревога по поводу разлуки и облегчение при воссоединении. Участники описывали немедленное облегчение от постоянных ежедневных стрессов во время разлуки, поскольку другие (например, учителя или поставщики услуг) справлялись с кризисами. Это облегчение позволяло им выполнять задачи, иначе затрудненные требованиями ухода. Однако облегчение было часто кратковременным, за ним следовала тревога по поводу благополучия ребенка после выполнения задачи. Хотя типичная литература по привязанности не описывает это временное облегчение, последние исследования отмечают, что опекуны, испытывающие длительный стресс, могут искать кратковременные разлуки как механизм совладания, чтобы восстановить эмоциональную энергию и реорганизовать способность к уходу (de la Roche & ImBolter, 2024; Edmunds et al., 2025; Warreman et al., 2023). В этом контексте временная разлука может служить формой регуляции, которая поддерживает долгосрочную доступность опекуна. Для опекунов аутичных детей эти моменты могут дать большее чувство контроля и позволить им вернуться к ролям опекунов с большей способностью к настройке.
В то же время почти все участники испытывали тревогу во время разлуки, беспокоясь о безопасности и благополучии своего ребенка, когда он не находился под их присмотром. Эта тревога была особенно выражена у родителей, чьи дети демонстрировали поведение, которое могло представлять угрозу безопасности, такое как побеги, самоповреждение или трудности в передаче потребностей незнакомым людям. Хотя качественные исследования, конкретно отражающие этот феномен у родителей аутичных детей, остаются ограниченными, более широкие исследования опекунов подтверждают повышенную тревогу и стресс у этих родителей, особенно когда поддержка кажется недостаточной (Crowell et al., 2019; de la Roche & ImBolter, 2024; van Niekerk et al., 2023). В данном исследовании участники описывали глубокое чувство ответственности и осознание того, что потребности их детей могут быть не полностью поняты или учтены в незнакомой обстановке, что усиливало чувство, что разлука несет риск. В контексте теории привязанности (Bowlby, 1969) длительный характер этой тревоги может отражать гиперактивированную родительскую систему заботы, постоянно отслеживающую потенциальные угрозы и ответственность, независимо от присутствия ребенка. Они также могут рассматривать себя как единственных, кто может обеспечить безопасность своего ребенка, а не как совместную роль между несколькими опекунами.
После разлуки участники данного исследования испытывали облегчение при воссоединении со своим ребенком. Многие описывали положительные эмоции, такие как счастье, спокойствие и чувство заземленности, когда их ребенок возвращался к ним. Несколько человек поделились, что знание того, что их ребенок снова находится под их присмотром, приносило утешение после периодов беспокойства или неопределенности. Родители также отметили, что тревога, которую они испытывали во время разлуки, делала воссоединение еще более значимым. Воссоединение приносило ощутимое чувство безопасности и уверенности. Родители также отметили, что тревога, которую они испытывали во время разлуки, делала воссоединение еще более значимым. Воссоединение приносило ощутимое чувство безопасности и уверенности. Однако двое участников поделились, что не могут вспомнить, чтобы когда-либо были разлучены со своим ребенком. В этих случаях дети имели высокие потребности в поддержке, и родители сообщали, что не уверены, что другие адекватно поймут или позаботятся об их ребенке. Для этих семей разлука была не просто эмоционально сложной, но и невозможной. Это подчеркивает, как ограниченный доступ к доверенной, поддерживающей помощи по уходу может формировать опыт ухода способами, выходящими за рамки личных предпочтений.
Другие факторы, влияющие на динамику привязанности
Две ключевые темы возникли как факторы, формирующие динамику привязанности между участниками и их детьми: выгорание/стресс и конфликт в со-воспитании.
Выгорание/стресс
Опыт выгорания и чрезмерного стресса часто сообщался и, казалось, влиял на отношения в воспитании детей. Участники часто описывали, как ограниченная поддержка со стороны семьи или сообщества способствовала истощению, что, в свою очередь, затрудняло проявление привязанности или настройку на ребенка. Некоторые делились, что по мере увеличения выгорания их роль смещалась в сторону практического ухода, оставляя меньше возможностей для игривости или эмоциональной связи. Это соответствует предыдущим исследованиям, показывающим, что по мере роста стресса возможности для эмоционально насыщенного, взаимного взаимодействия могут уменьшаться, не потому, что родители не заинтересованы или не любят, а потому, что их способность истощена (Bradley et al., 2023; Brennan & Davis, 2025; Buchwald et al., 2025). Romney et al. (2020) обнаружили, что родители часто участвуют в постоянном процессе осмысления, чтобы справиться с кумулятивным стрессом ухода, подобно участникам данного исследования, которые описывали колебания между надеждой и истощением. Интеграция этих выводов подтверждает, что родительское выгорание в контексте аутизма включает как индивидуальные, так и межличностные аспекты напряжения.
Родительский стресс связан с потребностями ребенка в поддержке, коммуникативным профилем и адаптивным поведением (Giannotti et al., 2023; van Niekerk et al., 2023). В данном исследовании несколько участников, чьи дети имели диагноз «Аутизм Уровень 2» или «Уровень 3», выразили стремление к «более простым» отношениям, не в плане того, кто их ребенок, а в плане меньшего количества барьеров для связи. Многие говорили о желании эмоционально взаимодействовать без преодоления сенсорных особенностей, коммуникативных несоответствий или поведенческих протоколов ухода. Более широкие исследования привязанности подчеркивают, что стресс может влиять не только на безопасность связи привязанности, но и на ее организацию. Мета-анализ O’Neill et al. (2021) показал, что родительская чувствительность имеет более сильную продольную связь с тем, разовьет ли ребенок организованный или дезорганизованный стиль привязанности, чем с тем, разовьет ли он безопасный или небезопасный стиль привязанности, особенно в дошкольном возрасте. В то время как дезорганизация часто приписывается пугающей или хаотичной среде ухода, авторы отмечают, что она также связана с стрессом опекуна, травмой и контекстуальными трудностями (O’Neill et al., 2021). Это особенно актуально для текущих выводов, где участники описывали хронический стресс, отсутствие передышки и изоляцию как барьеры для последовательной отзывчивости. Когда настройка требует интенсивных усилий, а уход не поддерживается, система привязанности может сместиться не только в плане безопасности, но и в плане организации, подчеркивая необходимость ранней и постоянной поддержки отношений для семей аутичных детей.
Хотя существует ограниченное количество исследований о том, как выгорание конкретно влияет на привязанность в аутичных семьях, выводы из неаутичных выборок дают соответствующее представление. Stelter и Halberstadt (2011) обнаружили, что высокий уровень родительского стресса связан с тем, что дети воспринимают своих опекунов как менее безопасные базы. Дети, чьи опекуны испытывают хронический стресс, могут не всегда воспринимать их как надежно доступных, что может повлиять на их внутренние рабочие модели. Эта обеспокоенность может усиливаться в семьях, сталкивающихся со сложными коммуникативными или поведенческими потребностями, где настройка требует повышенной бдительности, терпения и усилий.
Многие участники сообщали о гипербдительности по отношению к потенциальным стрессорам или потребностям. Несколько человек вспоминали времена, когда стресс заставлял их быть «резкими» или реактивными по отношению к своим детям, даже если они глубоко любили их. Только два участника исследования сообщили о получении услуг в области психического здоровья для себя. Важно отметить, что несколько участников, чьи дети получали психотерапию, особенно игровую терапию или семейную терапию, поделились, что эти услуги помогли им лучше понимать сигналы своего ребенка и реагировать таким образом, который углубил их связь. Они описывали, как учились настраиваться на своего ребенка через совместную терапевтическую работу, что повысило их чувство уверенности и эмоциональной доступности.
Конфликт в со-воспитании
Участники данного исследования сообщили о проблемах в со-воспитании, особенно когда они расходились во мнениях по таким подходам, как границы, вознаграждения или последствия. Эти разные точки зрения создавали путаницу в том, как относиться к своему аутичному ребенку и поддерживать его. Некоторые участники выражали разочарование тем, что эти разногласия затрудняли их последовательное присутствие и настройку на ребенка. Эти результаты соответствуют последним исследованиям, показывающим, что диагноз аутизма может увеличить семейный стресс и напрячь отношения со-воспитания (Bradley et al., 2023; Brennan & Davis, 2025). Когда партнерство родителей ослаблено, родители могут чувствовать меньшую поддержку и большую перегруженность, оба из которых могут повлиять на их способность оставаться эмоционально доступными для своего ребенка. Sim et al. (2017) обнаружили, что негативный опыт со-воспитания был связан с повышенным семейным стрессом и влиял на отношения родителя с другими детьми в семье. Укрепление отношений со-воспитания было связано со снижением уровня стресса и более скоординированным, отзывчивым воспитанием. Новые исследования также подчеркивают, что совместные родительские практики могут смягчить эмоциональное воздействие стресса от ухода, особенно когда родители чувствуют себя подтвержденными и согласованными в своих подходах (Hock et al., 2022).
Литература, посвященная со-воспитанию аутичных детей, все еще ограничена, особенно в связи с привязанностью. Однако более широкие исследования выявили факторы, влияющие на способность родителя устанавливать связь со своими детьми, такие как психическое здоровье опекуна (Giannotti et al., 2023; Teague et al., 2018), родительский конфликт (Brock & Kochanska, 2016) и нестабильность семьи (Ferraro & LucierGreer, 2022). Когда родители эмоционально настроены, отзывчивы и доступны, дети с большей вероятностью развивают уверенность в отношениях ухода (van IJzendoorn, 1995). Однако, когда опекуны непоследовательно доступны, дети могут усвоить чувство неопределенности, развивая негативные внутренние рабочие модели себя и других. Недавние исследования в области системного семейного подхода также предполагают, что неразрешенный родительский конфликт может подорвать эмоциональную безопасность и самосознание ребенка, даже если ребенок не вовлечен непосредственно в конфликт (Brock & Kochanska, 2016; O’Hara et al., 2023).
Кроме того, конфликт в со-воспитании может усилить существующие стрессоры и способствовать разрывам в отношениях привязанности, не обязательно из-за потребностей ребенка, а из-за несоответствия реакций опекунов. Несколько участников описали чувство изоляции в своей родительской роли или ощущение себя «резервным» родителем, что еще больше усилило чувство истощения. Хотя не все участники сообщили о разногласиях в со-воспитании, те, кто сообщил, выразили желание большей поддержки и общения, признавая, что согласованность в подходах к воспитанию может улучшить как их партнерство, так и связь с ребенком.
Ограничения и рекомендации для будущих исследований
Данное исследование имеет ряд ограничений, которые могут повлиять на переносимость результатов. Хотя участники описывали различные потребности своих детей в поддержке, разнообразие профилей аутизма ограничивает обобщаемость для всех отношений между родителями и детьми. Выборка преимущественно состояла из белых, цисгендерных, женщин-опекунов с доходом домохозяйства выше 80 000 долларов США, многие из которых были домохозяйками. Эти демографические характеристики, вероятно, сформировали опыт ухода, особенно через доступ к частным терапиям, гибкой занятости и более широким сетям поддержки. В отличие от этого, опекуны с меньшими финансовыми, социальными или культурными ресурсами могут сталкиваться с большими трудностями в навигации по системам ухода, что может существенно повлиять на динамику привязанности. Эта схема подбора, вероятно, отражает как структурные, так и контекстуальные барьеры. Поскольку участники были набраны в основном через онлайн-группы родителей и амбулаторные клиники психического здоровья, исследование могло непропорционально охватить опекунов, которые уже были связаны с официальными системами поддержки или которые имели время и доступ для участия онлайн. Отцы, небинарные опекуны и родители из расовых или этнических меньшинств также могут иметь особый опыт, обусловленный пересекающимися культурными ожиданиями и структурным неравенством. Опекуны из недостаточно представленных расовых, этнических или социально-экономических групп могут сталкиваться с барьерами, такими как ограниченный доступ к диагностическим ресурсам, недоверие к исследовательским учреждениям или сниженная доступность для добровольного участия из-за временных и финансовых ограничений. Будущие исследования должны отдавать приоритет более разнообразному набору участников по расе, этнической принадлежности, полу, социально-экономическому статусу и структуре семьи, чтобы лучше охватить весь спектр опыта опекунов.
Рекомендуется продолжить качественное исследование динамики привязанности, чтобы углубить понимание того, как опекуны ориентируются в связи, эмоциональной доступности и отзывчивости в нейроотличных семьях. Дальнейшие исследования должны также изучать, как собственный прошлый опыт привязанности опекунов влияет на их воспитание, поскольку несколько участников спонтанно связали свои подходы со своим воспитанием. Наконец, исследование привязанности в смешанных, приемных или многопоколенческих семьях может дать ценные сведения о том, как разнообразные системы ухода поддерживают или формируют развитие отношений у аутичных детей.
Клинические последствия
Одно из клинических последствий данного исследования — важность системной работы с семьями аутичных детей. Клиницистам рекомендуется выступать за поддержку не только для ребенка, но и для всей семьи, включая опекунов. Хотя участники сообщали о высоком уровне стресса, тревоги и эмоционального истощения, только двое из десяти сообщили о получении услуг в области психического здоровья для себя. Участники делились такими фразами, как «это не мое время», отражая, как опекуны часто откладывают свои собственные потребности, чтобы приоритизировать уход за ребенком. Клиницисты могут интерпретировать это не как отсутствие интереса к услугам, а как возможность мягко пригласить опекунов к терапевтической поддержке, даже если они напрямую не просят об этом. Психиатрическая помощь для опекунов имеет системные преимущества, поскольку благополучие опекунов может влиять на качество взаимодействия родителя и ребенка и общее функционирование семьи. Исследования показали, что родители, имеющие большее понимание своих собственных моделей привязанности, могут лучше чутко реагировать на потребности своего ребенка (Mikulincer & Shaver, 2019; Oppenheim et al., 2023, 2024; Parashar et al., 2024). Классические вмешательства по привязанности, разработанные Эйнсворт (1973), подчеркивают, как рефлексивные родительские практики и эмоциональная настройка способствуют безопасным моделям ухода. Участники текущего исследования, ответившие на приглашение проверить членство, поделились, что испытывали эмоциональное облегчение, обсуждая свой опыт ухода с врачом-исследователем. Они описывали этот процесс как подтверждающий и сообщили, что он способствовал лучшему самосознанию в их отношениях с ребенком. Это показывает, что открытие пространств для родителей, чтобы поразмышлять над этим опытом в присутствии чуткого слушателя, даже если это происходит время от времени, может принести пользу.
В соответствии с Romney et al. (2020), терапевтические вмешательства должны подчеркивать совместное осмысление и совместную регуляцию между партнерами и в рамках семейных систем. Поддержка пар в артикуляции как их индивидуальных, так и совместных нарративов о воспитании может смягчить выгорание и улучшить процессы безопасной привязанности. Этот фокус на отношениях соответствует рамкам привязанности, ориентированной на семейную терапию, подчеркивая, что исцеление происходит не только через понимание, но и через совместное перенастраивание в рамках опекунской единицы. Учитывая стрессоры, описанные участниками, мультимодальная поддержка может быть особенно полезной. Помимо психотерапии, родители могут получить пользу от направления в группы поддержки, психообразования и практической помощи, такой как навигация по уходу за детьми или услуги по передышке. Эти ресурсы могут создать пространство для опекунов, чтобы восстановиться, перезарядиться и вернуться к своей роли с повышенной эмоциональной доступностью. Многие участники описывали чувства социальной изоляции, а некоторые выражали трудности с поддержанием расширенной семейной или дружеской сети из-за своих обязанностей по уходу. Клиницисты могут рассмотреть возможность привлечения расширенных членов семьи, партнеров или других естественных сторонников к сессиям, чтобы расширить круг поддержки опекунов. Было показано, что социальная поддержка смягчает последствия родительского стресса в семьях аутичных детей (de la Roche & ImBolter, 2024; Ekas et al., 2010).
Системная терапия для самих аутичных детей также может быть полезной, особенно когда привязанность, семейная динамика или восстановление отношений являются поддерживающими целями. В данном исследовании участники поделились, как они настраивались на своих детей, используя высокоиндивидуализированные стратегии, включая использование вспомогательных средств (например, досок для письма, датчиков) и развитие тонкого понимания уникальных сигналов своего ребенка. Клиницисты могут опираться на эти усилия, поддерживая родителей в отслеживании и интерпретации стилей общения своего ребенка, предлагая инструменты, соответствующие сенсорному или когнитивному профилю ребенка, и интегрируя интересы ребенка (например, любимые мультфильмы, предпочтительные интересы) в терапевтические стратегии. На практике это может включать совместные родительские сессии, посвященные совместной настройке и совместному размышлению. Семейная поддержка, подчеркивающая эмоциональную совместную регуляцию, такая как управляемые рефлексивные диалоги или упражнения по смене ролей, может помочь родителям выявить свои собственные паттерны стресса, сохраняя при этом эмпатическую связь со своим ребенком. Эти подходы могут предложить конкретные пути для интеграции теории привязанности в семейную системную работу с нейроотличными популяциями.
В более широком масштабе результаты данного исследования предполагают роль системной пропаганды. Клиницисты, поставщики медицинских услуг, педагоги и политики должны начать рассматривать поддержку опекунов как критически важную часть комплексного ухода при аутизме. Наконец, на системном уровне результаты данного исследования предполагают необходимость более широкого признания того, что поддержка опекунов — это не роскошь, а неотъемлемый компонент устойчивого ухода. Внедрение ресурсов психического здоровья, общественных связей, информированного нейроразнообразия ухода и вариантов передышки в стандартные услуги может улучшить не только отношения родителя и ребенка, но и долгосрочное благополучие семей, живущих в мире, который часто игнорирует их потребности.
Заключение
Данное исследование изучало реальный опыт родителей, воспитывающих аутичных детей, через призму привязанности, освещая тонкие способы, которыми опекуны ориентируются в связи, стрессе и динамике отношений. Результаты подтверждают, что привязанность в семьях аутичных детей может не следовать традиционным моделям теории привязанности, а скорее отражает адаптивные, отзывчивые и часто творческие усилия опекунов по удовлетворению потребностей своего ребенка в обществе, которому часто не хватает структурной поддержки. В то время как участники сообщали о знакомых процессах привязанности, таких как настройка, дистресс во время разлуки и радость при воссоединении, интенсивность и выражение этой динамики формировались потребностями ребенка в поддержке, коммуникативным профилем и требованиями окружающей среды.
Центрируя реальный опыт, данное исследование подчеркивает важность подтверждения разнообразных проявлений привязанности и сопротивления нормативным предположениям об отношениях родителя и ребенка. Оно также подчеркивает необходимость того, чтобы клиницисты, исследователи и системы ухода признали, что благополучие опекунов необходимо для здоровья отношений, не как второстепенный фактор, а как неотъемлемая часть терапевтических и политических мер. Будущая работа должна продолжать расширять представления о нейроотличных семьях, обеспечивая, чтобы исследования и услуги отражали реальность тех, кто наиболее затронут.