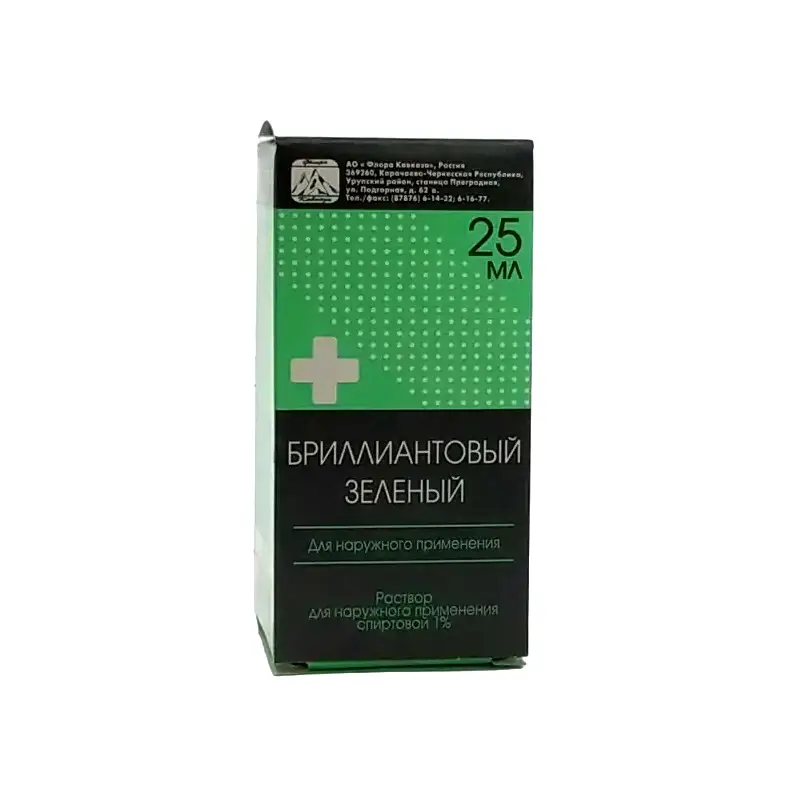Интересное сегодня
Стили совладающего поведения и нейронная/поведенческая чувст...
Введение Появление ребенка приносит не только радость, но и новые обязанности и вызовы. Новые матер...
Как нейросети предсказывают политические взгляды по фото: ро...
Введение: что можно узнать по лицу человека? Что мы можем узнать по лицу человека и какая именно ин...
Фермиевский метод оценки: как повысить точность личных сужде...
Введение в проблему точности оценок С момента анализа Гальтона многочисленные репликации выявили два...
Социальное обучение у диких крыс: как наблюдение за сородича...
Экспериментальные доказательства социального обучения у диких крыс Rattus norvegicus в полуп...
Прогнозирование легких когнитивных нарушений у пожилых людей...
Введение Старение населения — глобальный тренд, обусловленный увеличением продолжительности жизни и ...
Взаимосвязь психопатологии, мозга и окружающей среды
Введение Недавняя история психиатрии характеризуется значительным расширением диагностики. С тех пор...
Влияние психологических факторов на экологическое поведение и благополучие
Изменение климата — это самая насущная проблема нашего времени, требующая быстрых и эффективных стратегий смягчения последствий и адаптации на всех уровнях общества, от государственной политики до индивидуального образа жизни. Среди этих стратегий все большее значение приобретает поощрение устойчивого и проэкологического поведения (например, 1; 2), особенно учитывая, что во многих странах оно остается редким (3). Проэкологическое поведение относится к сознательным действиям, предпринимаемым индивидами для снижения или минимизации их негативного воздействия на окружающую среду (4; 5). Примеры включают переработку, сокращение потребления воды или энергии, выбор устойчивых продуктов питания и использование альтернативных видов транспорта вместо личных автомобилей.
Были разработаны различные теоретические подходы для объяснения, почему люди участвуют в таком поведении. Теория ценностей-убеждений-норм (Value-Belief-Norm theory) Стерна подчеркивает роль личных норм, активируемых экологическими ценностями и убеждениями, как движущих сил проэкологического поведения [1]. Аналогичным образом, теория экологической идентичности [2, 3] предполагает, что степень, в которой люди воспринимают себя как взаимосвязанных с природной средой, сильно предсказывает устойчивые действия. В этом контексте исследования связи с природой, определяемой как «индивидуальное опытное ощущение единства с природным миром» [4], последовательно находят положительные корреляции с проэкологическим поведением в различных культурных контекстах [5, 6]. Этот конструкт обеспечивает психологическую основу для экологической озабоченности, мотивации и ответственности.
Еще одним конструктом растущей актуальности является тревожность по поводу изменения климата, обычно описываемая как эмоциональный стресс и беспокойство по поводу ожидаемых последствий изменения климата [3]. Согласно [7], тревожность по поводу изменения климата следует рассматривать не только как патологическую, но и как потенциально адаптивную реакцию, которая может мотивировать к действиям по борьбе с климатом. Подтверждая это, недавние исследования показывают, что климатическая тревожность часто положительно коррелирует с проэкологическим поведением [8]. Таким образом, рассмотрение как связи с природой, так и климатической тревожности имеет решающее значение для понимания того, как психологические факторы формируют экологические действия.
Несмотря на их потенциальные преимущества, проэкологическое поведение часто изображается в общественном мнении и СМИ как неудобное или вредное для личного благополучия [9, 10]. Однако научная литература о связи между проэкологическим поведением и субъективным благополучием представляет смешанные результаты. В то время как несколько исследований сообщают о положительной связи между проэкологическим поведением, субъективным благополучием и удовлетворенностью жизнью (например, [9, 10, 11, 12]), другие обнаружили отрицательную или незначительную связь (например, [13, 14]). Более того, участие в проэкологическом поведении широко варьируется между странами и культурами, подчеркивая важность исследований, специфичных для конкретного контекста (например, [15, 16]). Учитывая эту сложность, крайне важно глубже исследовать, как социально-психологические факторы влияют как на проэкологическое поведение, так и на субъективное благополучие.
Данное исследование стремится достичь этого, опираясь на данные репрезентативной национальной выборки Португалии. Оно исследует, как чувство связи с природой, наряду со знаниями и личным опытом изменения климата, формируют проэкологическое поведение индивидов. Рассматривая эти аспекты, текущее исследование вносит ценный вклад в развивающуюся область и помогает информировать стратегии по поощрению климатических действий, которые также повышают благополучие.
Проэкологическое поведение и индивидуальные факторы
Социодемографические факторы
Существующие исследования выделили несколько социодемографических переменных, влияющих на участие в проэкологическом поведении. Такие характеристики, как возраст, уровень образования, доход и политическая ориентация, были связаны с различиями в экологическом поведении. В частности, люди с более левыми политическими взглядами последовательно чаще принимают экологически чистые практики (например, [17, 18, 19, 20]). Аналогично, более высокий уровень образования часто связан с увеличением проэкологических действий (например, [18, 21, 22]).
Однако взаимосвязи между возрастом, доходом домохозяйства и экологическим поведением менее однозначны. Некоторые исследования предполагают, что молодые люди и люди с более высоким уровнем дохода чаще участвуют в устойчивых практиках (например, [18, 21, 22, 23, 24]). В отличие от этого, другие исследования указывают на обратное, связывая более высокий доход с сокращением экологического поведения (например, [25, 26]) и демонстрируя противоречивые результаты относительно возраста (например, [26, 27, 28, 29]).
Социально-психологические факторы
В дополнение к социодемографическим влияниям, многочисленные социально-психологические факторы положительно коррелируют с проэкологическим поведением и предсказывают его. Одним из таких факторов является экологическая идентичность, которая относится к степени эмоциональной и когнитивной связи человека с нечеловеческой средой [2, 30]. Экологическая идентичность положительно связана с проэкологическим поведением и усилиями по предотвращению изменения климата (например, [5, 6, 30, 31]). То же самое относится к более высокой связи с природой, частому контакту и опыту в природе [6, 32, 33, 34]. Несколько исследований далее подчеркивают экологическую идентичность как значимый предиктор проэкологического поведения (например, [35, 36, 37]).
Другим важным фактором являются восприятия изменения климата, то есть восприятие изменения климата как реального, вызванного человеком и имеющего негативные последствия. Было обнаружено, что эти восприятия коррелируют с проэкологическим поведением и предсказывают его [38, 39, 40, 41]. Например, выбор диеты и транспорта часто связан с экологическими установками [42, 43]. Основываясь на этом, исследования далее показывают, что когда люди непосредственно сталкиваются с изменением климата или воспринимают его как непосредственную угрозу, они еще более склонны участвовать в проэкологическом поведении [44, 45, 46].
Таким образом, выдвигается гипотеза, что экологическая идентичность (H1a), восприятие изменения климата (H1b) и непосредственный опыт изменения климата (H1c) будут положительно связаны с проэкологическим поведением. Эта гипотеза основана на теории экологической идентичности [2], которая предполагает, что люди, чье самовосприятие тесно связано с природной средой, с большей вероятностью будут действовать способами, которые ее защищают. Предыдущие исследования последовательно демонстрируют, что более сильная экологическая идентичность предсказывает более высокую вероятность участия в сохранении ресурсов, устойчивом транспорте и проэкологическом выборе продуктов питания [5, 6]. Аналогично, восприятие изменения климата как реального, вызванного человеком и вредного, является надежным предиктором устойчивого поведения [38, 40]. Наконец, предыдущий опыт событий, связанных с климатом, повышает актуальность климатических рисков, делая людей более склонными участвовать в действиях по смягчению последствий [45, 46].
Проэкологическое поведение и субъективное благополучие
Одним из психологических последствий изменения климата является климатическая тревожность, которая относится к эмоциональному стрессу, который люди испытывают в ответ на текущие и ожидаемые последствия изменения климата [3, 47]. Эта форма тревожности все чаще признается в литературе как значимая проблема психического здоровья (например, [48]). Интересно, что некоторые исследования показали, что климатическая тревожность может привести к проэкологическому поведению (например, [8, 49]). Следовательно, выдвигается гипотеза, что климатическая тревожность положительно связана с проэкологическим поведением (H2).
Климатическая тревожность стала все более признанной эмоциональной реакцией на климатический кризис [48]. Хотя тревожность часто трактуется негативно, исследования показывают, что она может иметь и адаптивные качества, служа мотиватором к защитным действиям [7, 8]. Недавние исследования демонстрируют, что люди, испытывающие повышенное беспокойство или стресс, связанные с климатом, более склонны принимать проэкологические меры [49]. Таким образом, ожидается, что климатическая тревожность будет положительно предсказывать участие в устойчивых действиях.
Расширяющийся корпус исследований также изучил связь между проэкологическим поведением и субъективным благополучием, хотя результаты остаются неоднозначными. Несколько исследований показали, что проэкологическое поведение связано с большим субъективным благополучием (например, [9, 11, 50]). Это означает, что «более зеленые» действия связаны с более высокой самооценкой благополучия и жизни, включая когнитивное понимание и эмоциональные реакции на жизнь (например, [51, 52, 53]). Исследования предполагают, что включение проэкологического поведения в повседневные рутины людей повышает их чувство счастья, смысла жизни и благополучия (например, [11, 54]). Возможное объяснение этой связи заключается в том, что люди чувствуют себя хорошо, когда делают что-то, что оказывает положительное воздействие на окружающую среду (например, [55, 56]). Поскольку некоторые из этих действий имеют социальный компонент (например, совместное использование автомобиля), это побуждает людей чувствовать большую связь с сообществом (например, [11, 57]). Тем не менее, не все исследования согласуются с этими положительными результатами. Некоторые исследования показали расходящиеся результаты, предполагая, что участие в проэкологическом поведении не всегда приводит к улучшению благополучия (например, [13, 14]).
Основываясь на приведенной выше аргументации, ожидается, что проэкологическое поведение будет связано с более высоким уровнем субъективного благополучия. В частности, оно будет положительно коррелировать с удовлетворенностью жизнью (H3a) и позитивными эмоциями (H3b) и отрицательно коррелировать с негативными эмоциями (H3c).
Несколько исследований показали, что участие в устойчивых действиях способствует большему субъективному благополучию, укрепляя чувство цели, соответствие личным ценностям и чувство социальной связи [11, 12]. Например, участие в коллективных практиках, таких как совместное использование автомобилей, может укрепить чувство принадлежности к сообществу, в то время как принятие мер по сохранению ресурсов может укрепить самооценку как морально ответственного человека [55]. Напротив, неспособность действовать в соответствии со своими экологическими ценностями может порождать внутренний конфликт и негативные эмоции. Поэтому ожидается, что проэкологическое поведение будет способствовать благополучию.
Наконец, взаимосвязь между проэкологическим поведением и субъективным благополучием будет опосредована климатической тревожностью (H4). Эта гипотеза основана на исследованиях, показывающих, что эмоциональные реакции на изменение климата могут формировать то, как поведение влияет на благополучие. В то время как климатическая тревожность может усиливать стресс в краткосрочной перспективе, она также может канализировать озабоченность в конструктивные поведенческие реакции, которые, в свою очередь, уменьшают чувство беспомощности и усиливают позитивные эмоции [7]. Недавние выводы предполагают, что климатическая тревожность играет двойную роль: она усиливает негативные эмоции, но также может способствовать осмыслению и «расширяющим возможности» действиям, которые способствуют позитивным эмоциям и благополучию [8]. В этом исследовании, следовательно, выдвигается гипотеза, что климатическая тревожность опосредует связь между проэкологическим поведением и благополучием, действуя как эмоциональный механизм, посредством которого устойчивые практики влияют как на позитивные, так и на негативные эмоции.
Изучая связь между проэкологическим поведением и благополучием, это исследование предлагает новые перспективы на ранее противоречивые данные.
Текущее исследование
Настоящее исследование направлено на углубление нашего понимания уникального вклада социально-психологических характеристик в проэкологическое поведение. Для этого исследования были выбраны индивидуальные действия, которые, согласно литературе, имеют высокое воздействие: сокращение потребления энергии, потребление мяса и продуктов животного происхождения, а также использование автомобилей [58, 59]. Гипотезы были проверены на большой репрезентативной национальной выборке Португалии. Португалия продолжает оставаться одной из наиболее уязвимых к изменению климата стран Европы, страдающей от его серьезных последствий (например, тепловых волн, наводнений, лесных пожаров, засух). С ее длинной и густонаселенной береговой линией Португалия также находится под высокой угрозой повышения уровня моря. Учитывая, что проэкологическое поведение сильно различается между странами (например, [15, 16]), изучение стран, сильно уязвимых к изменению климата, таких как Португалия, крайне необходимо.
Метод
Выборка и процедура
Первичные данные были собраны из репрезентативной национальной выборки. Выборка состояла из 3300 взрослых, из которых 1583 мужчины и 1717 женщин. Описательные статистики выборки представлены в Таблице 1. Данные были собраны с помощью онлайн-опроса, проведенного компанией Qdata, исследовательским агентством, имеющим базу из 860 000 человек. Qdata является одной из ведущих компаний в области проведения опросов в Португалии. Электронные письма были отправлены участникам, отобранным случайным образом из базовой выборки с требуемым профилем. Ответившая выборка была взвешена по профилю определения выборки на основе данных переписи, чтобы обеспечить репрезентативную отчетную выборку с погрешностью 2% и уровнем доверия 95% для всего населения Португалии.
Таблица 1. Демографические характеристики участников
(В этом разделе обычно приводятся таблицы с демографическими данными, которые не могут быть воспроизведены в текстовом формате. Содержимое может включать возраст, пол, образование, доход и т. д.)
Измерения
- Тревожность по поводу изменения климата: Тревожность по поводу изменения климата как психологический ответ на изменение климата измерялась с помощью 13-пунктового инструмента [48]. Измерение состоит из двух подшкал: (а) когнитивное нарушение, 8 пунктов (например, «Мысли об изменении климата мешают мне спать») и (b) функциональное нарушение, 5 пунктов (например, «У меня проблемы с балансированием моих опасений по поводу устойчивости с потребностями моей семьи»). Ответы указывались по 5-балльной шкале от 1 = Никогда до 5 = Почти всегда. Средний балл респондента по каждому измерению был рассчитан. Альфа Кронбаха для этих измерений составила 0,91 и 0,89 соответственно. Среднее значение всех 13 пунктов также было рассчитано для получения общего балла тревожности по поводу изменения климата. Альфа Кронбаха для общей шкалы тревожности по поводу изменения климата составила 0,94.
- Экологическая идентичность: Экологическая идентичность участников оценивалась с помощью шкалы [60]. Измерение включало 14 пунктов, измеряющих индивидуальные различия в устойчивом чувстве взаимозависимости и связи с природой. Ответы указывались по шкале от 1 = Совсем не обо мне до 7 = Полностью обо мне. Средний балл был рассчитан для измерения общей экологической идентичности участников. Альфа Кронбаха для этого измерения составила 0,93.
- Восприятие изменения климата: Восприятие изменения климата участниками оценивалось с помощью шкалы [41], которая включала три типа восприятий: (а) реальность (например, «Я считаю, что изменение климата реально»); (b) причины (например, «Деятельность человека является основной причиной изменения климата»); и (c) ценность последствий (например, «Изменение климата приведет к серьезным негативным последствиям»). Участники использовали 7-балльную шкалу Лайкерта от 1 = Категорически не согласен до 7 = Полностью согласен. Среднее значение всех пунктов восприятия изменения климата также было рассчитано для создания общего балла. Альфа Кронбаха для этого измерения составила 0,96.
- Опыт изменения климата: Опыт изменения климата измерялся с помощью 3-пунктовой шкалы из [48] (например, «Я лично пострадал от изменения климата»). Ответы указывались по 5-балльной шкале от 1 = Никогда до 5 = Почти всегда. Альфа Кронбаха для этого измерения составила 0,84.
- Субъективное благополучие: Субъективное благополучие оценивалось с помощью Шкалы позитивных и негативных эмоций (PANAS) [61, 62]. Шкала состоит из двух измерений: Позитивные эмоции (PA) отражают степень, в которой человек чувствует себя полным энтузиазма, активным и бодрым (например, «Заинтересован»); и Негативные эмоции (NA) отражают субъективный дистресс и недовольство (например, «Расстроенный»). Измерение состояло из 20 пунктов, и ответы записывались по шкале от 1 = Очень мало / Совсем нет до 5 = Крайне. Пункты, относящиеся к каждому измерению, усреднялись отдельно для получения баллов участников по двум шкалам. По субшкале PA более высокие баллы отражали более высокие уровни позитивных эмоций, в то время как более высокие баллы по субшкале NA отражали более высокие уровни негативных эмоций. Альфа Кронбаха составила 0,91 для каждой из этих шкал.
- Удовлетворенность жизнью: Удовлетворенность жизнью измерялась с помощью Шкалы удовлетворенности жизнью (SWLS), 5-пунктового измерения, разработанного [63] и валидированного для португальской популяции [64], использовалось для оценки удовлетворенности жизнью респондента в целом. Субъективное благополучие определяется как когнитивные и аффективные оценки своей жизни [51]. Это измерение относится к когнитивно-оценочному компоненту субъективного благополучия. Участники отвечали по 7-балльной шкале от 1 = Категорически не согласен до 7 = Полностью согласен, чтобы указать степень, в которой они согласны с каждым утверждением (например, «В большинстве случаев моя жизнь близка к идеалу»). Средний балл по пяти пунктам был рассчитан для измерения удовлетворенности жизнью участников. Более высокие баллы по этому измерению отражали более высокие уровни удовлетворенности. Альфа Кронбаха для этого измерения составила 0,90.
- Проэкологическое поведение: Проэкологическое поведение измерялось с помощью адаптированной версии шкалы [65]. Шкала включала шесть поведенческих мер по сохранению ресурсов, касающихся того, как часто люди сокращают потребление отопления, кондиционирования, горячей воды и освещения. Ответы указывались по шкале от 1 = Никогда до 5 = Всегда. Средний балл был рассчитан для измерения поведения участников по сохранению ресурсов. Альфа Кронбаха для этой меры составила 0,69. Также были включены два пункта экологического гражданства, касающиеся членства в экологической, природоохранной или природоохранной организации. Альфа Кронбаха для этой меры составила 0,53. Были также включены два пункта о снижении потребления мяса (говядина, свинина и птица) и увеличении потребления вегетарианских блюд за последний год. Альфа Кронбаха для этой меры составила 0,57. Транспортное поведение, такое как совместное использование автомобилей, пользование общественным транспортом и ходьба или езда на велосипеде вместо вождения за последний год, также оценивалось с помощью трех пунктов. Ответы указывались по шкале от 1 = Никогда до 5 = Часто. Средний балл был рассчитан для измерения транспортного поведения участников. Альфа Кронбаха для этой меры составила 0,60.
- Социодемографические переменные: Участники указали свой возраст, пол, род занятий, уровень образования и семейное положение. Участники также сообщили о возрасте самого младшего ребенка, общем количестве детей, своем индивидуальном ежемесячном доходе по семибалльной шкале от 1 (менее 590 евро) до 7 (более 6720 евро). Политическая идеология измерялась по шкале от 0 = Левый до 10 = Правый, при этом более высокие значения означали более правое политическое мировоззрение.
Результаты
Предварительный анализ
В отношении проэкологического поведения участники сообщили о частом использовании мер по сохранению ресурсов (например, сокращение потребления отопления, кондиционирования) (M = 4,21, SD = 0,57), нечастом использовании совместного использования автомобилей или альтернативных видов транспорта (M = 2,87, SD = 1,02) и не сокращали потребление мяса или не увеличивали потребление вегетарианских блюд за последний год (M = 1,63, SD = 0,48).
Средние значения, стандартные отклонения и корреляции Пирсона между социодемографическими данными и проэкологическим поведением представлены в Таблице 2. Возраст отрицательно коррелировал с транспортным поведением (r = − 0,12, p < 0,001), что указывает на то, что чем моложе были люди, тем чаще они использовали совместное использование автомобилей или альтернативные виды транспорта. Тем не менее, возраст положительно коррелировал с поведением по сохранению ресурсов (r = 0,16, p < 0,001) и пищевым поведением (r = 0,09, p < 0,001), демонстрируя, что чем старше были люди, тем чаще они демонстрировали поведение по сохранению ресурсов и потребляли вегетарианские блюда за последний год. Для изучения роли социодемографических характеристик в проэкологическом поведении был проведен набор множественных регрессионных анализов (см. Таблицу 3). Результаты показывают, что возраст также был значимым предиктором поведения по сохранению ресурсов (β = 0,13, p < 0,001). Чем старше были участники, тем чаще они проявляли поведение по сохранению ресурсов. В совокупности эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими, что молодые люди склонны использовать более экологичные виды транспорта, в то время как пожилые люди чаще проявляли поведение по сохранению ресурсов и сокращали потребление мяса (например, [66]).
Таблица 2. Средние значения, стандартные отклонения и корреляции между исследуемыми показателями
(В этом разделе обычно приводятся таблицы с корреляциями, которые не могут быть воспроизведены в текстовом формате.)
Таблица 3. Множественные регрессионные анализы, предсказывающие проэкологическое поведение на основе экологической идентичности, восприятия изменения климата, опыта изменения климата и социодемографических характеристик
(В этом разделе обычно приводятся таблицы с результатами регрессионного анализа, которые не могут быть воспроизведены в текстовом формате.)
Доход домохозяйства и политическая идеология отрицательно коррелировали с транспортным поведением (r = − 0,06, p = 0,001; r = − 0,06, p < 0,001) и потреблением продуктов питания (r = − 0,04, p = 0,018; r = − 0,08, p < 0,001), предполагая, что чем ниже доход домохозяйства и чем более левая политическая идеология, тем чаще они использовали совместное использование автомобилей или альтернативные виды транспорта и тем чаще они потребляли вегетарианские блюда. Эти результаты перекликаются с предыдущими исследованиями [18, 19, — [20, 24, 67].
Социально-психологические характеристики и проэкологическое поведение
Первый набор гипотез предполагал, что экологическая идентичность (H1a), восприятие изменения климата (H1b) и непосредственный опыт изменения климата (H1c) будут положительно связаны с проэкологическим поведением. Для проверки этих гипотез были проанализированы средние значения, стандартные отклонения и корреляции Пирсона между социально-психологическими показателями и проэкологическим поведением (Таблица 2). Как и предсказывалось, экологическая идентичность была положительно связана с проэкологическим поведением, а именно с поведением по сохранению ресурсов (r = 0,37, p < 0,001), транспортным поведением (r = 0,21, p < 0,001) и пищевым поведением (r = 0,26, p < 0,001). Восприятие изменения климата также положительно коррелировало с проэкологическим поведением, а именно с поведением по сохранению ресурсов (r = 0,25, p < 0,001), транспортным поведением (r = 0,12, p < 0,001) и пищевым поведением (r = 0,18, p < 0,001). Кроме того, непосредственный опыт изменения климата положительно коррелировал с проэкологическим поведением, а именно с поведением по сохранению ресурсов (r = 0,09, p < 0,001), транспортным поведением (r = 0,25, p < 0,001) и пищевым поведением (r = 0,18, p < 0,001).
Для изучения роли социально-психологических характеристик в проэкологическом поведении был проведен набор множественных регрессионных анализов. Как показано в Таблице 3, экологическая идентичность и восприятие изменения климата были значимыми предикторами поведения по сохранению ресурсов (β = 0,37, p < 0,001; β = 0,15, p < 0,001). Чем более выраженной была экологическая идентичность участников и чем больше они считали изменение климата реальным, вызванным человеком и имеющим негативные последствия, тем выше были уровни поведения по сохранению ресурсов, которые они декларировали.
Проэкологическое поведение и субъективное благополучие
Вторая гипотеза предполагала, что климатическая тревожность будет положительно связана с проэкологическим поведением (H2). В соответствии с гипотезой 2, результаты показали, что климатическая тревожность была положительно связана с проэкологическим поведением (r = 0,07, p < 0,001; r = 0,23, p < 0,001; r = 0,21, p < 0,001, соответственно для поведения по сохранению ресурсов, транспорта и питания) (Таблица 2).
Третья и четвертая гипотезы предполагали, что проэкологическое поведение будет связано с более высоким уровнем субъективного благополучия. В частности, оно будет положительно связано с удовлетворенностью жизнью (H3a) и позитивными эмоциями (H3b), отрицательно связано с негативными эмоциями (H3c), и эти связи будут опосредованы климатической тревожностью (H4).
Для проверки этих гипотез был изучен опосредующий роль климатической тревожности во взаимосвязи между проэкологическим поведением и благополучием, и были использованы методы, разработанные Пречером и Хейсом [68]. Эти анализы проводились с использованием программы PROCESS (Модель 4; [69]) с оценками бутстрэпа с коррекцией смещения и 95% доверительными интервалами (Таблица 4). Эти результаты указывают на то, что поведение по сохранению ресурсов, транспортное поведение и пищевое поведение имели косвенные эффекты на позитивные эмоции. Эти эффекты опосредовались климатической тревожностью и были значительными, как указано доверительными интервалами бутстрэпа, полностью превышающими ноль (95% CI [0,059, 0,022]; 95% CI [0,018, 0,033]; 95% CI [0,042, 0,072] для поведения по сохранению ресурсов, транспорта и питания соответственно). Полученные результаты также указывают на то, что транспортное и пищевое поведение имели значительный косвенный эффект на негативные эмоции, опосредованный климатической тревожностью, как указано доверительными интервалами бутстрэпа, полностью превышающими ноль (95% CI [0,067, 0,093]; 95% CI [0,127, 0,183] соответственно). Эти результаты подтверждают процесс опосредования во влиянии проэкологического поведения на позитивные и негативные эмоции, но не на удовлетворенность жизнью.
Таблица 4. Оценки бутстрэпа с коррекцией смещения для проэкологического поведения с опосредованием климатической тревожности
(В этом разделе обычно приводятся таблицы с результатами медиационного анализа, которые не могут быть воспроизведены в текстовом формате.)
Обсуждение
Данное исследование изучило роль социально-психологических характеристик в проэкологическом поведении и субъективном благополучии, используя репрезентативную национальную выборку Португалии. Оно вносит вклад в существующую литературу, углубляя знания в развивающейся области исследований, изучая, как связь людей с природой, знания и опыт изменения климата влияют на развитие проэкологического поведения. Исследуя сложную связь между проэкологическим поведением и субъективным благополучием, это исследование также предлагает ценные сведения о том, как мотивировать климатические действия для смягчения негативных последствий изменения климата.
Результаты подтвердили первый набор гипотез, указывая на то, что экологическая идентичность, восприятие изменения климата и непосредственный опыт изменения климата положительно связаны с проэкологическим поведением. Кроме того, экологическая идентичность и восприятие изменения климата были значимыми предикторами поведения по сохранению ресурсов. Таким образом, результаты повторили и расширили результаты предыдущих исследований (например, [30, 39, 40, 43, 45]), предоставив доказательства роли социально-психологических характеристик на большой репрезентативной португальской выборке. Следовательно, это способствует растущему объему исследований, показывающих важность социально-психологических характеристик в проэкологическом поведении (например, [35, 40, 70]) и то, как люди, которые сильно идентифицируют себя с природной средой или рассматривают изменение климата как реальное, вызванное человеком и угрожающее, с большей вероятностью будут принимать устойчивые практики [2, 6, 40]. Они также предоставляют эмпирическую поддержку теоретическим моделям, таким как теория экологической идентичности и модель ценностей-убеждений-норм [1], подтверждая центральную роль идентичности и ценностей в экологических действиях.
Неожиданным результатом стало то, что личное переживание изменения климата не предсказало значимо поведение по сохранению ресурсов. В то время как люди, непосредственно пережившие последствия изменения климата, были более склонны принимать устойчивые транспортные и диетические изменения, эти переживания не привели к действиям по сохранению энергии. Одно из возможных объяснений заключается в том, что поведение по сохранению ресурсов, такое как сокращение потребления отопления или электроэнергии, часто формируется скорее бытовыми рутинами, инфраструктурой или экономическими стимулами, чем эмоциональными реакциями на климатические угрозы. В отличие от выбора транспорта или питания, которые могут ощущаться как более непосредственно связанные со снижением выбросов, действия по сохранению ресурсов могут восприниматься как привычные или менее значимые, что делает их менее чувствительными к личному опыту изменения климата. Этот результат согласуется с исследованиями, предполагающими, что определенное поведение движется скорее структурными условиями и социальными нормами, чем только восприятием риска [40]. Он также подчеркивает необходимость целевых мер, таких как системы обратной связи, финансовые стимулы и информационные кампании, которые делают связь между энергосбережением и изменением климата более очевидной.
Социодемографические паттерны далее обогащают интерпретацию этих результатов. Различия в возрасте оказались особенно актуальными: более молодые участники чаще участвовали в устойчивых транспортных мероприятиях, в то время как пожилые участники сообщали о более высоком уровне практик по сохранению ресурсов и большей готовности принимать диетические изменения, такие как сокращение потребления мяса. Эти результаты предполагают, что жизненный этап и повседневные рутины создают различные возможности и препятствия для экологических действий, подчеркивая ценность вмешательств, адаптированных к возрасту, например, улучшение инфраструктуры общественного транспорта и велосипедных дорожек для поддержки более молодых групп населения, а также продвижение инициатив по энергосбережению или пищевых инициатив для пожилых групп.
Доход домохозяйства и политическая идеология также были значимыми предикторами: люди с более низким доходом и более левые взгляды сообщали о более частом участии в более «зеленых» транспортных и диетических выборах. Это указывает на то, что как экономические ограничения, так и идеологические ценности формируют экологические практики, подчеркивая важность разработки политик, которые являются как финансово доступными, так и политически инклюзивными. Интересно, что образование показало относительно слабое отношение к поведению, предполагая, что, хотя экологические знания важны, их недостаточно для мотивации к действию, если они не сочетаются с сильной экологической идентичностью и ощущением срочности изменения климата. В совокупности эти результаты подчеркивают необходимость политических рамок, чувствительных к социодемографическим различиям, обеспечивая, чтобы вмешательства были специфичными для контекста, справедливыми и более вероятными для стимулирования широкого проэкологического участия.
Результаты также полностью подтвердили вторую гипотезу, показав, что климатическая тревожность положительно коррелировала с тремя исследуемыми проэкологическими видами поведения, что перекликается с предыдущими исследованиями (например, [8, 49]). Это согласуется с недавними работами, позиционирующими климатическую тревожность не просто как психологическое бремя, но и как адаптивный мотиватор к действию [7, 8]. Настоящее исследование дополняет эту литературу, демонстрируя на большой репрезентативной выборке, что климатическая тревожность может играть конструктивную роль в стимулировании устойчивого поведения.
В соответствии с предыдущими исследованиями (например, [11, 52]), результаты подтвердили предсказание, что проэкологическое поведение связано с более высоким уровнем позитивных эмоций и отрицательно связано с негативными эмоциями. Повторение этих результатов в данном контексте повышает нашу уверенность в их обобщаемости и подчеркивает важность страновых данных. Более того, эти отношения опосредовались климатической тревожностью. Эти результаты предоставили поддержку процессу опосредования во влиянии проэкологического поведения на позитивные и негативные эмоции, но не на удовлетворенность жизнью. Это подчеркивает двойную роль климатической тревожности: хотя она может усиливать стресс, она также мотивирует к поведенческому участию, которое уменьшает чувство беспомощности и способствует позитивным эмоциям. Этот нюансированный результат продвигает теоретические дебаты о психологических последствиях изменения климата, показывая, что проэкологическое поведение может служить как механизмом преодоления, так и путем к благополучию. Следовательно, он подчеркивает необходимость дальнейшего изучения опосредующей роли климатической тревожности в проэкологическом поведении и важности анализа различных видов поведения и показателей субъективного благополучия. Он далее демонстрирует адаптивную роль, которую климатическая тревожность может играть в улучшении проэкологического поведения (например, [8, 49]) и его прямые эффекты на благополучие.
В совокупности результаты могут способствовать быстрому изменению общественного восприятия и бросить вызов мнению о том, что проэкологическое поведение противоречит индивидуальному благополучию (например, [71, 72]). Это может далее убедить людей принимать и увеличивать устойчивое и проэкологическое поведение, поскольку оно остается на низком уровне в большинстве стран [73].
Политические последствия
Эти выводы способствуют продолжающейся дискуссии о взаимосвязи между устойчивыми практиками и субъективным благополучием. В то время как некоторые предыдущие исследования предполагали, что «зеленые» действия требуют личных жертв [13], настоящее исследование предоставляет доказательства обратного, показывая, что устойчивый образ жизни может улучшить благополучие. Это не только бросает вызов распространенным общественным нарративам, но и предлагает убедительный аргумент для продвижения проэкологической политики: она не обязательно должна противоречить индивидуальному счастью. Исследование предоставляет ценные рекомендации как для реализации политики, так и для продвижения проэкологического поведения, показывая, что действия в экологически ответственных направлениях не только полезны для планеты, но и положительно связаны с благополучием людей. Демонстрируя, что экологическая идентичность, восприятие изменения климата и даже климатическая тревожность побуждают людей принимать более «зеленые» действия, исследование выделяет психологические рычаги, которые политики могут использовать для разработки эффективных мер.
Важно отметить, что результаты оспаривают широко распространенное убеждение, что устойчивые практики требуют личных жертв, вместо этого показывая, что они могут повышать позитивные эмоции и снижать негативные. Эти доказательства укрепляют аргументы в пользу политик, которые интегрируют психологические и социальные факторы, такие как информационные кампании, инициативы, основанные на природе, и программы общественного участия, для стимулирования широкомасштабных поведенческих изменений. В конечном счете, исследование поддерживает идею о том, что продвижение устойчивости не противоречит личному счастью, а может, на самом деле, укреплять его, делая проэкологическую политику более привлекательной и более эффективной.
Ограничения и будущие исследования
Необходимо признать ограничения. Во-первых, самоотчетные меры могут быть подвержены социальной желательности и предвзятости памяти/воспоминаний. Это может повлиять на надежность данных, поскольку человек может выражать скорее свое самовосприятие, чем фактическое поведение ([74, 75, 76]). Несмотря на такую критику, недавние данные показывают, что предвзятость социальной желательности тесно связана с отчетами о проэкологическом поведении [77]. Тем не менее, будущие исследования выиграют от интеграции разнообразных методов измерения, включая полевые или лабораторные наблюдения за проэкологическим поведением. Трансверсальный характер исследования является еще одним ограничением, поскольку он не позволяет делать выводы о причинно-следственных связях с уверенностью. Будущие исследования должны далее установить причинно-следственную связь между социально-психологическими характеристиками, проэкологическим поведением и благополучием. Будущие исследования выиграют от квазиэкспериментального дизайна вмешательства, позволяющего провести продольное изучение опосредующих и модерирующих факторов во взаимосвязи между проэкологическим поведением и субъективным благополучием.
Другое ограничение касается измерения проэкологического поведения. Хотя исследование различало поведение, связанное с сохранением ресурсов, транспортом и питанием, внутренняя согласованность некоторых из этих подшкал была относительно низкой. Это предполагает, что пункты могли не полностью отражать широту или сложность каждой поведенческой области. Например, поведение по сохранению ресурсов может варьироваться от простых действий, основанных на привычках (например, выключение света), до более трудоемких изменений (например, сокращение отопления), которые могут не сильно группироваться вместе. Аналогично, поведение, связанное с транспортом и питанием, подвержено влиянию разнообразных структурных, культурных и личных факторов, что может объяснить их более низкую надежность как единых конструктов. Таким образом, результаты следует интерпретировать с осторожностью, и будущие исследования выиграют от использования более полных и психометрически надежных мер проэкологического поведения, возможно, сочетая самоотчетные шкалы с поведенческими наблюдениями.
Заключение
В целом, данное исследование вносит три ключевых вклада. Во-первых, оно демонстрирует, что экологическая идентичность и восприятие изменения климата значительно формируют проэкологическое поведение, что обеспечивает сильную поддержку теориям экологических действий, основанных на идентичности и ценностях. Во-вторых, оно подчеркивает адаптивную роль климатической тревожности, показывая, что эмоциональные реакции на изменение климата могут мотивировать к действию и опосредовать взаимосвязь между поведением и благополучием. В-третьих, опираясь на большую репрезентативную национальную выборку из Португалии, страны, сильно уязвимой к климатическим воздействиям, это исследование предоставляет контекстно-специфичные доказательства, которые расширяют обобщаемость предыдущих исследований.
Результаты имеют важные теоретические последствия, углубляя наше понимание того, как идентичность, ценности и эмоции совместно влияют на устойчивость. Они также имеют практические политические последствия: вмешательства должны использовать экологическую идентичность, решать проблемы восприятия изменения климата и признавать мотивирующую роль климатической тревожности. Целенаправленные стратегии, учитывающие социодемографические различия, будут далее повышать эффективность политических мер.
В заключение, данное исследование подчеркивает, что проэкологическое поведение не только помогает смягчить изменение климата, но и способствует индивидуальному благополучию. Переосмысливая устойчивый образ жизни как пути к здоровью как планеты, так и человека, политики и практики могут способствовать более широкому участию в климатических действиях. Делая это, ложная дихотомия между экологической ответственностью и счастьем может быть разрушена, открывая путь к более устойчивым обществам, проливая свет на роль социально-психологических характеристик в проэкологическом поведении и субъективном благополучии.