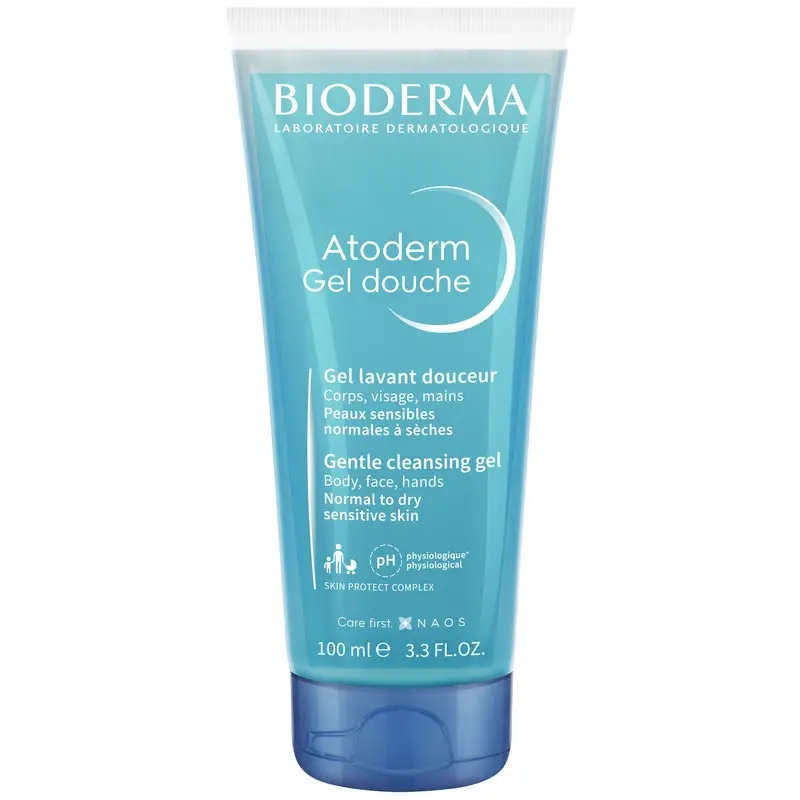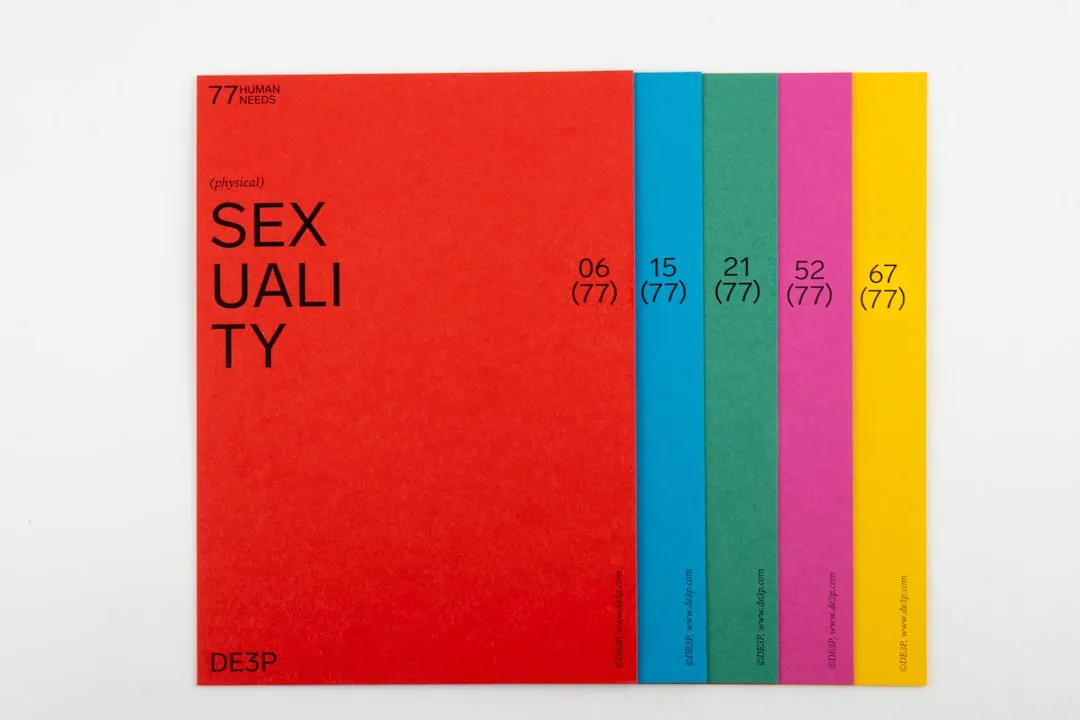
Интересное сегодня
Чувствительность к аффективному прикосновению влияет на инте...
Введение В последние годы автономная сенсорная меридиональная реакция (ASMR) стала глобально признан...
Как сервисное лидерство влияет на игровой дизайн работы: клю...
Введение Игровой дизайн работы (ИДР) — это проактивный процесс, в ходе которого сотрудники сознатель...
Психометрические свойства тайской версии опросника личности ...
Введение Исследование личностных черт и их связь с психическими расстройствами является важной облас...
Почему люди верят, что характер виден по лицу: научное объяс...
Введение в физиогномику Люди спонтанно судят о характере незнакомцев на основе их внешности (Тодоров...
Эксперимент Павлова с собаками и теория классического обусло...
Эксперимент Павлова с собаками и классическое обусловливание Как и многие великие научные открытия, ...
Как недовольство телом и образ жизни влияют на депрессивное ...
Введение За последние два десятилетия распространенность депрессивных симптомов среди подростков уве...
Сколько существует полов?
В человеческом обществе, а также у большинства животных и других видов, использующих половое размножение, существует два пола. Тот факт, что не все отдельные организмы можно четко отнести к одному из двух полов, не меняет этого общего принципа. Хотя существуют формы жизни, такие как грибы, имеющие множество «типов спаривания», для репродукции одновременно задействованы не более двух. Именно эта бинарность достаточна для внесения генетического разнообразия. Философ-феминистка Гросс, проявляющая необычный интерес к эволюционной теории, допускает возможность того, что в будущем может появиться больше, чем два пола, но не меньше. «Человек, как ясно показал Дарвин, является результатом и развитием полового различия, и, следовательно, человек, и даже то, что находится за пределами человеческого, неизбежно принимает (по крайней мере) две формы» (Grosz, 2005, с. 42). Это связано с тем, что эволюция не движется вспять к менее дифференцированным формам: «Половое различие, однажды введенное как способ биологического выживания, вряд ли будет устранено, лишь усложнится, разработается, разовьется дальше, возможно, даже за пределами человеческого» (Grosz, 2004, с. 67). Никто не знает, что может принести эволюция, но, на мой взгляд, это постгуманистическое будущее менее актуально для нас в настоящее время. Ответ «два» остается неизменным на протяжении очень долгого времени для значительной части жизни на Земле.
Сколько существует гендеров?
Ответ на этот вопрос зависит от того, как мы определяем «гендер». Если использовать его как эвфемизм для «пола», то, естественно, два. Оставив это нечеткое определение в стороне, я дам наилучшие ответы, основываясь на определениях, которые, часто оспаривая, опираются на различие между полом и гендером.
Гендерная идентичность и гендерные роли
В первоначальной формулировке «гендерной идентичности», как чувства принадлежности к определенному полу или идентификации с соответствующей «гендерной ролью» (секс-веды, вводящие этот термин, уже смешивают эти понятия), также два (см. Hausman, 1995, с. 102–109). Более поздние формулировки пытаются вместить столько гендеров, сколько индивидов заявляют о своей уникальной идентичности, что приводит к циклическим определениям и поднимает вопрос, является ли «гендер» действительно лучшим словом для обозначения идиосинкратических идентичностей.
Гендер также используется как синоним «сексуальной роли» или «гендерной роли». Существуют психологические, социологические и феминистские вариации этого понятия, но поскольку речь идет о социальных ролях, назначаемых на основе пола, ответ снова — два.
Гендерные системы в феминистских теориях
Что касается феминистских теорий гендера, многие из них анализируют «гендерные системы» на структурном уровне. В этих теориях гендерных систем ответ обычно — два: мужчина/маскулинное и женщина/фемининное, иерархически организованные и определяемые в оппозиции друг другу, а не по отношению к половым различиям (см. Scott, 1986). В ранней, важной разработке теории гендера Рубин (1975) пишет: «Гендер — это социально навязанное разделение полов» (с. 179). Однако Рубин все еще ссылается на «мужчин» и «женщин», указывая, что ее поло-гендерная система основана на понимании двух полов и двух (соответствующих) гендеров.
В радикально-феминистской версии гендерной системы МакКиннон (1982) «мужчина» и «женщина» — это социальные роли, зависящие в основном от вашей позиции в сексуальном акте. Доводя эту логику до крайности, МакКиннон должна согласиться с Виттиг (1980) в том, что «лесбиянки не являются женщинами», в то время как, предположительно, гомосексуальные мужчины, занимающие пассивную роль, являются. Другими словами, гендеров по-прежнему только два, хотя они не полностью совпадают с полом.
Либеральная феминистка Окин (1989) определяет гендер как «глубоко укоренившуюся институционализацию сексуального различия» [курсив в оригинале] (с. 6), от которой необходимо избавиться для достижения справедливого общества. В других вариациях темы феминистской гендерной системы Янг (1994) описывает гендер как «социальный коллектив», Хаслангер (2000) — как «социальную позицию», а Рисмон (2004) — как «социальную структуру».
Хотя Хаслангер оставляет открытой возможность неиерархических и множественных гендеров, в теориях феминистских гендерных систем ответ, как правило, сводится к двум, поскольку «гендер» используется как инструмент критического анализа, а не, скажем, утопического мышления. Идея состоит в том, чтобы упразднить гендер — и даже «женщин» и «мужчин», когда они рассматриваются как «гендеры». Эти феминистки, которых можно охарактеризовать как эгалитаристов, будь то либерального, марксистского или радикального толка, склонны рассматривать любое разделение полов как автоматически влекущее гендерное неравенство. Поэтому они застревают на парадоксе равенства против различия и борются с такими вопросами, как рождение ребенка. Файрстоун (2015) предложила радикальное решение — полностью отказаться от него и сделать репродукцию гендерно-нейтральной. Хотя немногие идут так далеко, половые различия часто отвергаются как незначительные, или как настолько сильно нагруженные культурными значениями, что их невозможно познать.
Размывание границы между полом и гендером
Другими словами, пол исчезает из поля зрения в академическом феминизме, оставляя только гендерную половину дихотомии. Различие между полом и гендером обсуждается с момента введения понятия гендера в феминистскую теорию, среди прочего, за поддержание картезианского разделения разума и тела и за «натурализацию» пола. Приведем лишь несколько примеров: Фридман (1991) защищает это различие как аналитически полезное, даже если и пол, и гендер в конечном итоге являются социально сконструированными. Николсон (1994) не согласна и даже бранит тех феминисток, которые используют только «гендер», за косвенное обоснование его в поле. По моему мнению, нынешний консенсус в гендерных исследованиях заключается в том, что «гендер» обозначает понимание пола как культурно сконструированного, а не пола и гендера как чем-то осмысленно отличным.
«Делание гендера» и гендерная перформативность
Теория «делания гендера» Вест и Циммерман (1987) может быть охарактеризована как развитие теорий гендерных систем и предшественник «гендерной перформативности» Батлер. Опять же, ответ — два, поскольку Вест и Циммерман рассматривают «делание гендера» как культурный императив, поддерживающий половые категории «мужчина» и «женщина», и как нечто более фундаментальное, чем другие социальные роли, которые все являются гендерными.
Батлер (1999) сочетает эту идею с понятием Рубин о том, что принудительная гетеросексуальность лежит в основе гендерной системы и порождает гендерные различия. Однако «гетеросексуальная матрица» Батлер, кажется, колеблется между строгим гендерным бинаром и почти бесконечными возможностями для «делания гендера» по-другому. С одной стороны, все «гендеры», кроме маскулинных мужчин, желающих женщин, и фемининных женщин, желающих мужчин, описываются как невразумительные; с другой стороны, три переменные Батлер (пол-гендер-сексуальность) теоретически допускают как минимум восемь различных «гендеров». В характерной серии риторических вопросов Батлер (1999) пишет, что когда гендер теоретизируется как «свободно плавающий артефакт» без миметической связи с полом, «нет никаких причин полагать, что гендеров должно оставаться два» (с. 10). В сложном теоретическом ходе Батлер также переворачивает дихотомию пол/гендер, настаивая на том, что гендер предшествует полу и порождает его.
Критика постструктуралистских гендерных теорий
Халл (2006, с. 83–111) демонстрирует ошибочность постструктуралистских гендерных теорий, таких как теория Батлер. Биологический пол используется двумя противоречивыми способами: как «действительно» бесконечно более сложный, чем просто мужской или женский, и как просто конструкт научного дискурса. С одной стороны, часто встречаются риторические указания на исключения, ставящие под сомнение норму двух полов, как будто реальность имела значение. С другой стороны, различие между полом и гендером отвергается (или деконструируется), и оба термина в конечном итоге понимаются как дискурсивные конструкты. Обычно какая-то версия «гендерного бинара» преподносится как то, что порождает (иллюзию) двух полов. Но если «пол» — это сконструированная категория, наложенная на хаотичную или непознаваемую реальность, то он не более и не менее того, чем мы его делаем. Если теория состоит в том, что бинарная культура делает его бинарным, то так оно и есть. В конечном итоге, пол бинарен, потому что гендер бинарен, а гендер бинарен, потому что пол бинарен. На мой взгляд, такие гиперконструктивистские, свободно плавающие теории гендерных систем не имеют большей объяснительной ценности или критического потенциала, чем спекуляции о жизни в «Матрице». Более того, они антропоцентричны, поскольку мы — лишь одно из многих половых размножающихся животных.
Гендер как маскулинность и фемининность
Распространенный способ определения гендера, в том числе в феминистской теории, — это отсылка к маскулинности и фемининности. Например, Фридман (1991) дает определение «социокультурные конструкты фемининности и маскулинности» (с. 200). Популярная концептуализация гендера как фемининности и маскулинности рассматривает его как нечто вроде шкалы с Барби и Д. И. Джо на противоположных концах, а большинство, если не все, реальных людей где-то между ними. Вариация этого — шкала половых ролей Бем, которая помещает маскулинность и фемининность на отдельные шкалы, а не на противоположные концы, и описывает высокий балл по обеим как желательную «психологическую андрогинию» (Bem, 1974). На таких моделях гендеры либо по-прежнему два (рассматриваемые как идеальные типы маскулинности и фемининности, которым никто не соответствует), либо бесконечное количество индивидуальных вариаций, каждая из которых является своим «гендером». Последнее приближается к популярным описаниям бесконечных «гендерных идентичностей» и «гендерных выражений» и вызывает аналогичные возражения.
В зависимости от того, считаете ли вы, что пол имеет значение, гендер, определяемый в бинарных терминах как маскулинность/фемининность, может допускать четыре различных «гендера». Халберстам (1998) настаивает на том, что женская маскулинность отличается от мужской маскулинности и не является ее производной.
Множественность гендеров и «третьи гендеры»
Как предполагают примеры Халберстам, Батлер и Виттиг, те, кто хочет утверждать наличие более двух гендеров, как правило, обращаются либо к сексуальным меньшинствам (квеерные исследования изобилуют примерами, такими как инверты, бутчи и квины), либо к так называемым «культурам третьего гендера», в которых существуют дополнительные социальные категории, отличные от «мужчин» и «женщин». Обычно дополнительный гендер является полово-специфичным и предназначен для фемининных и/или андрофильных мужчин. Нет необходимой симметрии в обозначении соответствующей гендерной категории для маскулинных и/или гинефильных женщин — или исключении равной доли женщин из гетеросексуального размножения. Маскулинные женщины, как правило, получают культурное признание как уникальные личности, а не как социальная группа, и часто обусловлены тем, что они «девственницы» (хотя вопрос о том, засчитывается ли секс между женщинами, — другой).
Критический реализм и основа гендера в поле
Эти примеры показывают, что даже при учете возможности существования более двух гендеров, гендер сохраняет некоторую связь с полом, в обоих смыслах слова. Поэтому я склоняюсь к феминистскому пониманию пола как основы гендера с точки зрения критического реализма (см. Hull, 2006, с. 104–105). Согласно этой логике, гендеры (обычно) два, потому что полы (всегда) два. Критический реализм может допускать более двух гендеров, но не бесконечное их количество. Прежде всего, гендер должен сохранять связь с полом, чтобы осмысленно называться гендером. Должны быть представлены убедительные аргументы для провозглашения нового гендера, например, его социальное признание в реальном мире и применение к достаточно четкой группе. Например, если вдовы в определенном обществе имеют заметно отличающееся социальное положение от других женщин, это можно считать отдельным гендером, в то время как гендеры из Tumblr не учитываются.
Существует ли более двух гендеров, также зависит от того, какую функцию выполняет ваша концепция гендера. Если она используется для описания культурно изменчивых гендерных систем, то имеет смысл утверждать о существовании более двух гендеров. Однако, если она используется как инструмент критического анализа, это не имеет смысла. Если только вы не мыслите как истинный постструктуралист, который может разобрать дом хозяина, используя инструменты хозяина, перефразируя Лорд (1984). Я согласна с Хаусманом (1995, с. 197) и Мой (1999, с. 29) в том, что попытка исчезнуть гендерную систему путем умножения гендеров является тщетной феминистской стратегией.
Один гендер: перспектива де Бовуар и Виттиг
Наконец, ответ может быть и меньше двух, как показывает пример де Бовуар. По мнению Мой (1999), де Бовуар ошибочно обвиняли в изобретении феминистского различия между полом и гендером из-за англоязычного неверного толкования ее экзистенциалистского феминизма (с. 72–79). Когда де Бовуар говорит «женщина», она имеет в виду не «гендер», а тело как ситуацию и прожитый опыт. Однако у нее есть понятие, близкое к «гендерным нормам», которое Мой (1999) переводит как «мифы о фемининности» (с. 80–81). В этом смысле «гендера» у де Бовуар только один. Мужчина — это немаркированное, негендерное универсальное, в то время как Женщина — его маркированное, гендерное Другое. Опираясь на де Бовуар, Виттиг (1980) заявляет об этом прямо:
Гендер используется здесь в единственном числе, потому что действительно нет двух гендеров. Существует только один: фемининный, «маскулинное» не является гендером. Ибо маскулинное — это не маскулинное, а общее.
(Wittig, 1980, с. 64)
Феминистский проект Виттиг, как и де Бовуар, заключается в освобождении женщин от «гендера» (мужского проецирования инаковости) и предоставлении им статуса универсального человека.
Один гендер: перспектива феминисток сексуального различия
В вариации на эту тему феминистки сексуального различия, такие как Иригарэй, могут ответить: один, маскулинный. По мнению Иригарэй, андроцентричная культура не признает сексуального различия, а только Мужчину и его зеркальное отражение Женщину. То, что феминистки сексуального различия называют «фемининным», еще не нашло своего выражения, и мы не знаем, что может повлечь за собой его культурное признание. Однако неточно переводить это на язык гендера. Скорее, феминистки сексуального различия особенно не заботятся о «гендере», поскольку он существует полностью в рамках андроцентричного или фаллологоцентричного порядка (см. Butler, 1999, с. 14–18; Grosz, 2005, с. 173–177).
Гейтенс (1995) сравнивает чрезмерное внимание к гендеру с лечением только симптома и игнорированием первопричины, как будто связь между полом и гендером произвольна. Она пишет: «Если принять понятие сексуально специфического субъекта, то есть мужчины или женщины, то следует отвергнуть идею о том, что патриархат может быть охарактеризован как система социальной организации, которая ценит маскулинный гендер [курсив в оригинале] выше фемининного гендера. Гендер — не проблема; сексуальное различие — это проблема» (Gatens, 1995, с. 9). Я согласна. Гендер, безусловно, культурно значим и стоит исследований. Он может быть даже сексуальным. Но с феминистской точки зрения я все больше чувствую, что фокусировка на гендере — в ущерб полу — это тупик.
Феминизм за пределами гендера?
Феминистки и другие теоретики критических исследований давно критикуют сексологическую концепцию гендера за медикализующее, коммерциализирующее и деполитизирующее то, что иначе могло бы быть проанализировано как «угнетение по половым ролям» (Raymond, 1994, с. 9) или «стереотипы, основанные на поле» (Moi, 1999, с. 82). Аналогичная критика может быть направлена и на феминистскую концепцию гендера, которая стала самоподдерживающейся в «гендерных исследованиях» и так далее. Введение Мой в ее эссе 1999 года «Что такое женщина?» по-прежнему весьма актуально:
В современной феминистской теории так много энергии тратится на то, чтобы уберечь призрак биологически обоснованного эссенциализма, что легко забыть, что обобщения о гендере могут быть столь же угнетающими, как и обобщения о поле. Во многих ситуациях сегодня биологический детерминизм не является самым насущным препятствием для эмансипаторного понимания того, что такое женщина.
(Moi, 1999, с. 7)
Я считаю, что академические феминистки, идущие по стопам Батлер, слишком заняты избиением зомбированного трупа биологизма, чтобы заметить, как реакционеры и антифеминисты любят — а не «боятся» — гендер. Гросс (2005) предложила двадцать лет назад, что «пришло время выйти за пределы самого языка идентичности и гендера, чтобы посмотреть на другие нетронутые проблемы, не заданные вопросы и неразработанные предположения» (с. 171). Я думаю, что сейчас действительно самое время.
Гросс (2004, с. 259; 2005, с. 168; 2011, с. 148) ставит сексуальное различие на один уровень со смертностью как один из вечных вопросов человечества, вопрос, требующий феминизма как одного из нескольких возможных ответов. Феминизм не может (рас)решить сексуальное различие раз и навсегда, как надеются различные гендерно-аболиционистские течения феминизма (Grosz, 2005, с. 162). Сексуальное различие останется по крайней мере до тех пор, пока человек остается человеком. Более того, в отличие от версий феминизма, в которых угнетенная группа требует свободы и признания от угнетателя (Grosz, 2005, с. 167), женщины уже в некотором важном смысле свободны и автономны, иначе феминизм был бы невозможен (Grosz, 2011, с. 73). Как феминистка и женщина-человек, я гораздо охотнее обитаю в причудливо дифференцированной эволюционной вселенной Гросс, чем в клаустрофобном антропоцентричном лингвистическом лабиринте Батлер.