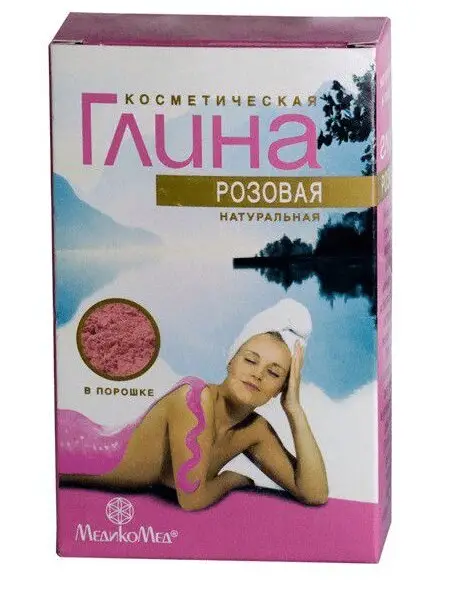Интересное сегодня
Уникальные дыхательные 'отпечатки пальцев': как ды...
Ваше дыхание уникально. Исследование, опубликованное 12 июня в журнале Current Biology издательства ...
Влияние менструального цикла на моторное воображение и актив...
Введение Колебания половых стероидов в течение менструального цикла связаны с вариациями двигательны...
Как распознать и противостоять газлайтингу: основные фразы и...
Газлайтинг – одна из самых разрушительных форм эмоциональной манипуляции. Он может оставить вас в за...
Влияние ошибочных предупреждающих меток на доверие к новостя...
Введение Распространение дезинформации и ложной информации в Интернете побудило ученых и медиа-платф...
Иллюзия цвета: как ваше зрение воспринимает фиолетовый и син...
Различия центрального и периферического зрения Исследователи в области восприятия давно знают о стр...
Как избавиться от «отвращения» в отношениях: что это такое и...
Бывало ли у вас такое, что вы были без ума от кого-то, но вдруг почувствовали необъяснимое отвращени...
Обновление Теории реляционных фреймов: взгляд через призму интерповеденческой психологии
В последние годы ряд исследователей подчеркивают, что корни Теории реляционных фреймов (Relational Frame Theory, RFT; Hayes et al., 2001) частично уходят в интерповеденческую психологию Кантора (например, Barnes-Holmes et al., 2020; Harte & Barnes-Holmes, 2024). Это наблюдение неслучайно, поскольку в прологе к основополагающей работе по RFT 2001 года было явное указание на влияние Кантора. Более того, сама книга была посвящена как Скиннеру, так и Кантору за проложенный ими «путь к естественнонаучному объяснению человеческого языка и познания» (Hayes et al., 2001). Первое опубликованное изложение основной идеи RFT также было создано в соавторстве с ученым-канторианцем/интерповеденщиком, Л. Дж. Хейзом (Hayes & Hayes, 1989).
В недавних публикациях фокус на интерповеденческом мышлении Кантора в RFT вновь обрел актуальность, что некоторые авторы описывают как «обновление» теории (Barnes-Holmes & Harte, 2022; Barnes-Holmes et al., 2020; Harte & Barnes-Holmes, 2024). Цель данной статьи — не подробный обзор работ по этому «обновлению», а переосмысление ключевых концепций RFT через призму интерповеденческого подхода, обусловленное необходимостью справляться с реляционной сложностью. Мы стремимся прояснить, насколько основные понятия RFT согласуются с общим интерповеденческим, основанным на полевых концепциях, теоретизированием.
В этом исследовании мы начнем с рассмотрения основного понятия теории — реляционного фрейма. Далее мы обратимся к относительно недавней исследовательской программе, основанной на RFT, которая фокусировалась на относительной силе или вероятности самого реляционного фреймирования. Как станет ясно, эта программа исследований включала анализ взаимодействия между множественными реляционными фреймами, что представляло собой большую реляционную сложность, чем анализ отдельных фреймов. Именно в борьбе с такой сложностью проявилась потенциальная полезность интерповеденческого анализа (Harte & Barnes-Holmes, 2024). После этого мы рассмотрим, поддается ли более фундаментальная концепция RFT — сам реляционный фрейм — интерповеденческому анализу. Хотя может показаться нелогичным начинать с интерповеденческого анализа реляционной сложности (Harte & Barnes-Holmes, 2024), а затем возвращаться к более базовой концепции реляционного фрейма, такой порядок наиболее точно отражает интеллектуальный путь, приведший нас к текущей точке.
Определение реляционного фрейма
Первая задача — описать концепцию реляционного фрейма, опираясь на первое книжное изложение RFT (Hayes et al., 2001). В этой работе дается следующее определение:
Термин «реляционный фрейм» был введен для обозначения особых видов реляционного реагирования (Hayes & Hayes, 1989). Реляционный фрейм — это специфический класс произвольно применимого реляционного реагирования, которое демонстрирует контролируемые контекстом качества взаимного влечения, комбинаторного взаимного влечения и трансформации функций стимула; возникает в результате истории реляционного реагирования, соответствующего задействованным контекстуальным сигналам; и не основано исключительно на прямом [т.е. явно подкрепленном] нереляционном обучении в отношении конкретных интересующих стимулов, а также не основано исключительно на непроизвольных [формальных или физических] характеристиках как самих стимулов, так и отношений между ними.
(стр. 33; текст в квадратных скобках здесь и далее добавлен к оригинальной цитате).
Авторы также отмечают, что «реляционные фреймы являются единицей реагирования и специфическим классом функционального поведения, но ошибочно рассматривать эту [единицу] в механистических и физикалистических терминах» (стр. 34), поскольку это подорвало бы функционально-аналитический характер самой единицы. Кроме того, авторы добавляют оговорку, что «...хотя общий [или универсальный] концепт реляционного фрейма является основополагающим для RFT, концепт любого конкретного реляционного фрейма [например, координации или различия] таковым не является» (стр. 40).
Далее мы раскроем это определение для последующего изучения концепции через призму интерповеденческого, основанного на полевых концепциях, теоретизирования.
Свойства реляционного фрейма
Согласно приведенной выше цитате, реляционные фреймы определяются тремя свойствами: взаимным влечением, комбинаторным взаимным влечением и трансформацией функций стимула.
- Взаимное влечение (mutual entailment): Означает возникновение неподкрепленного или производного реляционного реагирования между двумя стимулами. Например, подкрепление реляционного ответа A–B в процедуре подражания образцу (matching-to-sample) приводит к производному, неподкрепленному реагированию B–A.
- Комбинаторное взаимное влечение (combinatorial mutual entailment): Относится к возникновению неподкрепленного или производного реляционного реагирования, включающего два перекрывающихся взаимно обусловленных реляционных ответа. Например, подкрепление реляционного реагирования A–B и B–C в процедуре подражания образцу приводит к производному неподкрепленному реагированию A–C и C–A.
- Трансформация функций стимула (transformation of stimulus functions): Означает изменения в функциях стимулов, которые могут происходить в соответствии с взаимным и комбинаторным влечением. Например, если стимул A имеет определенную функцию, то при его связи с C через комбинаторное влечение, функции C будут дополнены определенным образом (при наличии соответствующих контекстуальных сигналов), основываясь на специфической функции A.
Согласно RFT, влечение и трансформация функций реляционного фреймирования находятся под контролем двух классов контекстуальных сигналов: Crel (contextual cues for relations) и Cfunc (contextual cues for functions).
- Crel: Это стимулы, которые определяют класс влечения, задействованный в каждом случае реляционного реагирования. Например, сигналы «такой же, как», «отличается от», «противоположно» задают реляционный контекст для конкретных паттернов реляционного фреймирования (например, координация, оппозиция, различие).
- Cfunc: Это сигналы, которые выбирают соответствующее свойство или свойства стимула, которые будут изменены в соответствии с обусловленными отношениями. Например, если вам сказали, что A очень сладкий на вкус, а B противоположен A (по вкусу), то можно предположить, что B будет кислым на вкус.
Объяснение такого контроля при определении реляционного фрейма предоставляется через историю соответствующего множественного exemplaireго обучения (multiple exemplar training). Например, именно через взаимодействие молодого ребенка с вербальным сообществом устанавливаются соответствующие контекстуальные функции для таких стимулов, как «вкус» (Cfunc) и «такой же, как» (Crel) в репертуаре поведения ребенка. Другими словами, соответствующий контекстуальный контроль требует истории воздействия соответствующих оперантных обусловленностей в рамках вербального сообщества, прежде чем станет возможным производное (неподкрепленное) реляционное реагирование.
В этом смысле концепция реляционного фрейма является исторической и функциональной, и поэтому концептуализируется как обобщенный оперантный класс. Как таковой, реляционное фреймирование, как тип оперантного класса, не считается новым поведенческим принципом; однако RFT ввела концепцию нового поведенческого процесса «из-за логически необходимых следствий таких оперантов» (Hayes & Barnes-Holmes, 2004, стр. 215). То есть, RFT постулирует, что оперантное поведение реляционного фреймирования изменяет функции других поведенческих процессов. Иными словами, реляционное фреймирование — это оперантное поведение, которое влияет на сам процесс оперантного научения.
В целом, универсальный концепт реляционного фрейма представляется несомненно функциональным (сноска 1), поскольку он включает любой индивидуальный паттерн реляционного фреймирования — например, «такой же», «противоположный», «различный» — но не определяется каким-либо одним из этих специфических фреймов. Это, конечно, согласуется с концепцией операнта, который может включать, например, нажатие на рычаг или клевание клавиши, но не определяется ни одной из этих конкретных форм реакции (оперант определяется динамическими закономерностями в функциональных обусловленностях между классами реакций и экземплярами стимулов; см. Catania, 1973).
Чтобы развить эту мысль, процедуры и принципы, к которым обращается RFT при объяснении реляционных фреймов как оперантов, идентичны тем, которые используются при объяснении любого операнта; в частности, установленные закономерности в обусловленностях, включающие множественные экземпляры. Этот взгляд четко отражен в следующем заявлении об обобщенных оперантах и реляционных фреймах, найденном в учебнике Catania (1998) по обучению:
... обучение на множестве примеров может иногда служить достаточным условием для более высоких порядков или обобщенных классов (например, обучение на многих задачах симметрии может привести к обобщенной симметрии, обучение на многих задачах транзитивности может привести к обобщенной транзитивности и так далее; такие обобщенные классы называются реляционными фреймами ...).
(стр. 158).
Наконец, как было отмечено выше в цитатах, реляционный фрейм определяется как единица реагирования. Таким образом, свойства влечения и трансформации функций, а также соответствующие контекстуальные сигналы, неразделимы. Любой экземпляр реляционного фреймирования, следовательно, будет включать влечение и трансформацию функций под соответствующими формами контекстуального контроля.
Для иллюстрации представьте простую задачу подражания образцу (MTS), в которой участник был обучен сопоставлять A с B и B с C, и впоследствии надежно сопоставляет C с A в отсутствие подкрепления. В этом случае RFT предполагает, что определенные переменные будут функционировать как Crel, так и Cfunc для установления обусловленного реляционного реагирования между C и A. Например, задачи MTS обычно используются в ранних образовательных упражнениях для установления произвольных отношений между словами и изображениями объектов (то есть формат MTS может функционировать как Crel для координации). Кроме того, успешное сопоставление C с A указывает на то, что обусловленные функции образца A были трансформированы в функции сравнения, а обусловленные функции сравнения C были трансформированы в функции образца. Структура задачи MTS в данном случае также функционирует как Cfunc, поскольку она ограничивает соответствующие функции выбором сравнения в присутствии образца.
Изучение реляционного фреймирования с помощью процедуры оценки имплицитных реляций (IRAP)
После изложения основных особенностей концепции реляционного фрейма, описанной в издании 2001 года (Hayes et al., 2001), мы теперь обобщим относительно недавнюю исследовательскую программу в RFT, которая начала подчеркивать важность основополагающих интерповеденческих корней теории. После этого мы вернемся к основной концепции реляционного фрейма, чтобы определить степень, в которой она также может соответствовать интерповеденческому подходу (для более полного обзора канторианского интерповеденчества см. Hayes & Fryling, 2023; см. также Midgley & Morris, 2006).
Процедура оценки имплицитных реляций (Implicit Relational Assessment Procedure, IRAP) — это методология, основанная на RFT, разработанная для оценки относительной силы или вероятности вербальных отношений, определенных в рамках теории. Она представляет собой компьютерную методологию, которая измеряет латентность ответов на отношения стимулов, которые считаются либо логически связанными, либо не связанными с существующей вербальной историей участников. Во время каждого испытания на экране сверху появляется метка (например, «цветок» или «насекомое»), а в центре — целевой стимул (например, «приятный» или «неприятный»). Участники должны выбрать один из двух вариантов ответа (например, «Правда» или «Ложь»), чтобы подтвердить или опровергнуть связь метки и цели в данном испытании. Важно отметить, что IRAP чередует блоки, требующие противоположных ответов: один блок может потребовать подтвердить «цветок» — «приятный» как «Правда», а следующий — отрицать эту связь (Ложь). Основной тезис заключается в том, что участники должны отвечать быстрее в испытаниях, которые соответствуют их вербальной истории (например, «цветок» — «приятный» — «Правда»), чем в тех, которые не соответствуют (например, «цветок» — «неприятный» — «Правда»; Barnes-Holmes et al., 2010).
Производительность обычно количественно оценивается путем вычитания средних латентностей для несогласованных блоков (например, «цветок» — «приятный» — «Ложь») из согласованных блоков («цветок» — «приятный» — «Правда»). Полученные баллы разницы в латентности, которые обычно стандартизируются, дают четыре различных показателя типа испытания. Каждый показатель типа испытания отражает одну из четырех комбинаций метки-цели (например, «цветок» — «приятный», «цветок» — «неприятный», «насекомое» — «приятный», «насекомое» — «неприятный»). Изначально эти баллы рассматривались как отражение относительной «силы» или вероятности четырех задействованных отношений стимулов. В истории этого исследования различия, наблюдаемые в эффектах типов испытаний, в значительной степени приписывались валентности стимулов (например, позитивным и негативным реакциям на цветы по сравнению с насекомыми; см. Barnes-Holmes et al., 2010).
Однако валентностные интерпретации дали сбой, когда предполагаемые нейтральные стимулы вызвали необъяснимые расхождения в паттернах типов испытаний. Например, Финн и др. (2018) использовали слова «цвет» и «форма» в качестве меток, а примеры цветов (например, красный, синий) и форм (например, квадрат, круг) в качестве целей. Результаты задокументировали большие баллы разницы (т.е. более быстрое реагирование в согласованных по сравнению с несогласованными блоками испытаний) для типа испытания «цвет» — «цвет», чем для типа испытания «форма» — «форма», несмотря на идентичные требования к реакции (выбор «Правда») и предполагаемые незначительные различия в валентности между этими стимулами.
Эта аномалия, несовместимая с предыдущими моделями (Barnes-Holmes et al., 2010), привела к разработке модели различных эффектов произвольно применимого реляционного реагирования (Differential Arbitrarily Applicable Relational Responding Effects, DAARRE) (Finn et al., 2018). Модель DAARRE приписывает различные эффекты типов испытаний относительной согласованности или перекрытию трех специфических элементов RFT: (1) Crel или реляционных свойств стимулов (например, координация между словом «цвет» и словами, обозначающими цвета); (2) Cfunc или функциональных свойств метки и целевых стимулов (например, заметность из-за частоты употребления в языке; слова, обозначающие цвета, встречаются в естественном языке чаще, чем слова, обозначающие формы); и (3) Cfunc или функциональных свойств вариантов ответа (например, «Правда» может считаться в целом более позитивным, чем «Ложь»).
Что касается IRAP с цветами и формами, упомянутого выше, то большая разница в баллах, наблюдаемая для типа испытания «цвет» — «цвет» по сравнению с типом испытания «форма» — «форма», может быть объяснена следующим образом. В частности, предполагая, что цвета и слова, обозначающие цвета, встречаются в естественном языке чаще, чем формы и слова, обозначающие формы (см. Keuleers et al., 2010, для поддержки из базы данных лексикона), участники могут ориентироваться на первые, чем на вторые. Таким образом, участникам может быть легче ответить «Правда» в испытаниях «цвет» — «цвет» по сравнению с испытаниями «форма» — «форма» в согласованных блоках; то есть функциональные свойства Cfunc «Правда» перекрывались или согласовывались в большей степени с реляционными и функциональными свойствами Crel и Cfunc «цвет» — «цвет», чем «форма» — «форма».
С момента этой основополагающей работы с формами и цветами модель DAARRE используется для анализа и прогнозирования паттернов эффектов, возникающих на IRAP в диапазоне стимулов и различных профилей участников (например, Bortoloti et al., 2019, 2023, 2024; de Almeida et al., 2024; Finn et al., 2019; Pidgeon et al., 2021; Pinto et al., 2020; Schmidt et al., 2021). В целом, этот растущий объем работ подчеркивает важную роль функциональных свойств стимулов как модераторов Arbitrarily Applicable Relational Responding (AARR).
В контексте данной статьи важно то, что исследования на основе DAARRE с использованием IRAP подчеркнули критическую роль согласованности между функциональными и реляционными свойствами Cfunc и Crel стимулов. Как недавно утверждалось в других работах (см. Harte & Barnes-Holmes, 2024), этот новый концептуальный фокус, предоставленный моделью DAARRE, требует смещения акцентов внутри самой RFT, на чем мы теперь остановимся подробнее.
Интересно, что недавнее смещение фокуса сигнализирует о возрождении основополагающих интересов RFT, которые изначально были сосредоточены на изучении опосредованного правилами поведения как сложных реляционных сетей (Hayes & Hayes, 1989), а не на приоритете отдельных реляционных фреймов (Hayes, 1991). Другими словами, канторианские корни RFT вновь проявились, особенно в том, как сложные реляционные сети теперь понимаются как динамические поля вербальных интерактантов. С этой точки зрения, компоненты любой реляционной сети не существуют отдельно; вместо этого их значение и функция возникают из их участия в интерактивном поле. Например, метка «Цвет» приобретает свою позитивную ориентирующую функцию по отношению к сравнительно менее позитивной функции «Формы». Таким образом, интерактанты, актуализированные в данном исполнении IRAP, коллективно определяют психологическое событие.
Интерповеденческая интерпретация психологического события по Кантору
С этим возвращением к интерповеденческим корням RFT, Харте и Барнс-Хоумс (2024) утверждают, что модель DAARRE может быть полезно интерпретирована через призму формулы Дж. Р. Кантора для психологического события (Kantor, 1958). Эта единица анализа (психологическое событие) отличается от более распространенных концептуализаций в поведенческом анализе, и именно это делает ее особенно релевантной для концептуализации сложного поведения. Кратко суммируем ее здесь, хотя читателям рекомендуется обратиться к соответствующим материалам для более подробной информации о психологическом событии или построении поля (например, Hayes & Fryling, 2018).
Следующая формула обобщает психологическое событие — PE = C(k, sf, rf, st, md, hi) (Kantor, 1958, стр. 14).
- PE (Psychological Event) — Психологическое Событие.
- C — указывает на то, что все факторы составляют единое событие, то есть интегрированное целое.
- k — уникальность каждой конфигурации события.
- sf (stimulus function) — функция стимула.
- rf (response function) — функция реакции.
- st (setting conditions) — условия обстановки.
- md (medium of contact) — среда контакта.
- hi (interbehavioral history) — интерповеденческая история.
Мы подчеркиваем здесь, что «C» указывает на то, что части, составляющие психологическое событие, на самом деле не являются частями в смысле их обособленного рассмотрения от всего события. Скорее, части выделяются таким образом для аналитических целей как в исследовании, так и в интерпретации. Термин «k» подчеркивает, что каждое психологическое событие уникально, поскольку конфигурация факторов, составляющих событие, не может быть воспроизведена. «Sf» обозначает функцию стимула или стимулирующее действие объекта-стимула (примечание: существуют важные следствия для различения между объектами-стимулами и функциями стимулов, которые мы далее раскроем). «Rf» относится к функциям реакции, которые отличаются от форм реакции. Подобно тому, как функции стимула отличаются от объектов-стимулов, функции реакции отличаются от реагирующих организмов. «St» означает условия обстановки, которые представляют собой особенности обстоятельств, в которых происходят функции стимула и реакции. Важно отметить, что факторы обстановки включают как внешние, так и организменные обстоятельства. Примеры последнего включают такие состояния, как усталость, болезнь, голод, интоксикация и т. д. (например, Kantor, 1958; Kantor & Smith, 1975). Обстановка также включает другие текущие взаимодействия, например, когда двуязычный человек говорит на том же языке, на котором говорят другие люди в данной ситуации. «Hi» относится к интерповеденческой истории, подчеркивая предпосылку, что история человека является кумулятивным присутствием во всех текущих психологических событиях (Hayes, 1992a). Важным моментом в этом отношении является неповторяемость психологических событий; то есть каждое событие имеет историю, включающую предыдущее событие, которого у предыдущего события нет. Для аналитических целей интерповеденческая история может быть описана как состоящая из двух элементов, а именно эволюции стимула и реакционной биографии (так же, как функции стимула и функции реакции различаются для аналитических целей). Наконец, «md» относится к среде контакта, которая означает факторы, позволяющие организму контактировать с объектами-стимулами (например, свет является средой контакта для визуального объекта-стимула).
Модель DAARRE: полевая интерпретация
Канторианская система постулирует, что психологическое событие (PE) синонимично всему полю составляющих факторов (C). В этом контексте PE представляет собой полное исполнение IRAP, проанализированное через модель DAARRE. Элемент C подчеркивает, что все элементы модели образуют неделимое целое — удаление любого отдельного фактора приведет к совершенно отдельному и новому событию (то есть удаление фактора не будет считаться причинно влияющим на изменение того же исходного события). Например, исключение стимула формы (и его менее позитивной функции) по своей сути переопределит более позитивную функцию стимула цвета, поскольку эти сравнительные функции совместно кодируют друг друга в рамках модели. Включение фактора k далее подчеркивает, что модель DAARRE охватывает distinct психологическое событие, позволяя индивидуально интерпретировать исполнения IRAP. Таким образом, даже повторные применения одной и той же IRAP к одному человеку каждый раз могут приводить к уникальным психологическим событиям.
Модель DAARRE явно различает объекты-стимулы (sf) и их функции, а также функции реакции (rf) и индивидов, их производящих. Например, хотя цвет и форма существуют как независимые объекты-стимулы, их относительно позитивные (и менее позитивные) функции актуализируются только в рамках модели. Аналогично, выбор «Правда» или «Ложь» является реакцией индивида, но согласованность (или ее отсутствие) этих реакций с другими элементами модели (например, реляционными свойствами Crel) актуализируется только в модели DAARRE.
Формула Кантора также включает факторы обстановки (st), которые влияют на то, как стимулы функционируют в IRAP. Например, условия окружающей среды, такие как температура, могут изменять функциональные свойства Cfunc определенных стимулов — холодные напитки могут приобретать относительно позитивную вызывающую функцию в жаркой обстановке, в то время как горячие напитки могут делать это в холодной обстановке. Помимо физических условий, факторы обстановки охватывают более широкие контекстуальные переменные, включая эффекты инструкций (Finn et al., 2018) и культурные влияния. Например, Пауэр и др. (2017) обнаружили расхождения в исполнении IRAP между белыми ирландцами и чернокожими африканскими иммигрантами, возможно, из-за языковых барьеров или социальной динамики выполнения задачи в преимущественно белом окружении. Это подчеркивает обширность факторов обстановки в полевых анализах, которые сопротивляются сведению к простым экспериментальным манипуляциям.
Критически важно отметить, что полевой подход предохраняет от реификации менталистических конструктов (например, «расовая предвзятость») как фиксированных, внутренних причин поведения. Традиционная психология часто рассматривает поведенческие измерения как прокси для таких конструктов, но интерповеденческая перспектива отвергает это, рассматривая каждое событие как уникальное, динамическое взаимодействие. Термины, такие как Crel и Cfunc, используются не как опосредующие переменные, а как описания реляционных паттернов в поле. Счет IRAP не содержит этих свойств — скорее, их влияние возникает из взаимодействия между типами испытаний.
Среда контакта (md) в большинстве IRAP была визуально-тактильной, но модель DAARRE недавно была расширена на другие модальности, такие как слуховые и визуальные представления (Parreiras et al., 2025). Хотя это может показаться незначительным, это иллюстрирует гибкость модели в адаптации к разнообразным интерповеденческим контекстам.
Наконец, интерповеденческая история (hi) является неотъемлемой частью модели DAARRE, поскольку функции стимула формируются под влиянием предыдущего обучения. Например, относительное доминирование цвета над формой в типичных IRAP может отражать более высокую частоту цветоориентированного языка в повседневном опыте. Однако эта история не вызывает поведение линейным образом — она встроена в модель как часть интерактивного поля. Если архитектор, для которого форма может иметь большее историческое значение, демонстрирует обратное доминирование (форма над цветом), модель потребует исследования таких уникальных историй. Даже непосредственные доэкспериментальные факторы, такие как инструкции или предыдущий опыт выполнения задачи (Finn et al., 2016, 2018), вносят вклад в интерповеденческое поле, подчеркивая, что ни один элемент не действует изолированно.
Хотя пример с формами и цветами может показаться упрощенным, он подчеркивает важный момент: история не является обособленным предшественником, а конститутивным аспектом психологического события. Формулируя модель DAARRE как поле коопределяющих интерактантов, исследователи могут быть лучше оснащены для изучения динамической, контекстуально вложенной природы AARR.
Возвращаясь к основам: интерповеденческая интерпретация концепции реляционного фрейма
Прежде чем продолжить, представляется важным уточнить, что поле теоретического анализа, представленный выше, применим ко всему исполнению IRAP — оно не может быть осмысленно сведено к изучению изолированных реакций. Другими словами, психологическое событие — это полное исполнение IRAP, а полное исполнение IRAP — это психологическое событие, что подразумевает глубоко исторический анализ. В то же время мы должны признать, что функции стимула и реакции, действующие в любом отдельном испытании IRAP, преходящи. Предыдущие экземпляры этих функций становятся частью контекстуального фона, на котором возникают новые функции. В этом смысле исполнение IRAP разворачивается как динамическое событие: реакции каждого испытания происходят во shifting контексте, причем каждое последующее испытание несет в себе немного более богатую историю, чем предыдущее. Рассмотрев под этим углом зрения, можно, безусловно, провести более детальный анализ реагирования IRAP — но для иных аналитических целей, чем те, что руководят настоящей полевой интерпретацией.
После изучения того, как модель DAARRE может быть интерпретирована через призму интерповеденческого психологического события, возникает очевидный и важный вопрос. В частности, поддадутся ли основные основополагающие концепции RFT полному интерповеденческому анализу? Если нет, это может привести к некоторой некогерентности теории. То есть, если все особенности или аспекты RFT не поддаются интерповеденческому анализу, можно утверждать, что RFT больше не представляет собой единый всеобъемлющий поведенческий подход к человеческому языку и познанию. Таким образом, представляется важным определить, может ли интерповеденческий анализ реляционной сложности, изложенный до сих пор в контексте модели DAARRE, также быть легко применен к более фундаментальным концепциям RFT. Чтобы начать отвечать на этот вопрос, оставшаяся часть настоящей статьи будет посвящена интерповеденческой переоценке основной концепции самого реляционного фрейма.
Реляционный фрейм: интерповеденческая переоценка
Как отмечалось ранее, концепция реляционного фрейма относится к классу AARR, включающему контекстуальный контроль взаимного и комбинаторного влечения, а также трансформацию функций стимула. Специфические поведенческие паттерны влечения и трансформации функций определяются контекстуальными сигналами. Свойства этих сигналов устанавливаются через расширенную историю обучения, посредством взаимодействия с вербальным сообществом, для соответствующего реагирования в присутствии этих сигналов (то есть сигналы определяют реляционное реагирование, а не только формальные свойства задействованных стимулов или отношений).
При переоценке концепции реляционного фрейма через интерповеденческую призму мы сначала рассмотрим интерповеденческие концепции функций стимула и реакции, включая замещающую стимуляцию и реагирование, факторы обстановки и интерповеденческую историю. Мы фокусируемся на этих концепциях в частности, поскольку они представляются наиболее релевантными для нашей текущей цели. То есть мы исследуем, в какой степени эти концепции позволяют проводить интерповеденческий анализ основной концепции реляционного фрейма.
Стимуляция и реагирование
В то время как более распространенные конструкции в поведенческой психологии включают линейные последовательности дискретных событий различного рода (например, S → R / респондент, Sd → Bx → Sr / оперант), психологическое событие интерповеденческой психологии — нет (сноска 2). Действительно, фокусом психологического события является функция стимуляции и реагирования (Sf ↔ Rf), что подразумевает, что нет стимуляции без реагирования, и нет реагирования без стимуляции (сноска 3).
Интерповеденческая психология подчеркивает различие между стимулами как объектами и как функциями, а также между реакциями как биологическими формами и функциями. Это означает, что нас, как психологов, интересуют действия стимулов и реакций — их функции, а не их источники. Термин «функция» здесь используется в чисто описательном смысле. Использование этого термина, подразумевающее причину, цель или основание, противоречит интерповеденческой философии. Как указывает элемент «C» в формуле психологического события, факторы, составляющие поле события, на самом деле не являются частями в смысле их обособленного рассмотрения от всего события. Психологическое событие, скорее, концептуализируется как интегрированное целое, в котором ни одна абстрагированная часть не может считаться причинно ответственной за любую другую часть или за все целое, частью которого она сама является. По сути, это означает, что стимулы не являются причинно ответственными за поведение в интерповеденческой психологии. Это резко контрастирует с обычным использованием термина «функция» в поведенческих кругах (например, Fryling & Hayes, 2011; Kantor, 1950, стр. 156–157).
Важно отметить, что различие между стимулами как объектами и как функциями, а также между формами реакции и психологическим реагированием, позволяет анализировать, как объекты-стимулы могут приобретать психологические свойства других объектов-стимулов, и как эти психологические свойства могут присутствовать в отсутствие этих объектов. В интерповеденческой перспективе это называется развитием замещающей стимуляции — и соответствующей реакции как замещающей или имплицитной реакции (например, Kantor, 1924/1926). Далее мы опишем пример, чтобы подчеркнуть эту важную концепцию и процесс.
Индивид может взаимодействовать с изображением, обращая внимание на цвета или текстуры, возможно, оно также особенно четкое или размытое. Это реакции на свойства объекта изображения как стимула. Но в дополнение к этим свойствам, человек может также реагировать в отношении изображения, скажем, озера, вспоминая другие озера, которые он посетил в прошлом, людей, с которыми он там был, виды деятельности, которыми он занимался, и многое другое (например, если день на озере был холодным, человек может отреагировать так, будто ему сейчас холодно, притянув куртку ближе и сказав: «Я помню, как там было холодно»). Действительно, чтение этого текста само по себе может актуализировать то, что в интерповеденческой психологии называется функциями замещающего стимула для читателя (например, напоминание читателю об определенном дне, проведенном у озера). Эти свойства стимула и соответствующие реакции (Sf↔Rf) не имеют никакого отношения к физическим особенностям изображения. Они никак не связаны с цветами или текстурой изображения или степенью его четкости или размытости (нерелевантность этих особенностей для психологического события сама по себе может быть проиллюстрирована рассмотрением того, как другой человек с другой историей может реагировать на изображение).
Таким образом, различие между стимулом как физическим объектом и как функцией стимула является ключом к пониманию сложных психологических явлений с интерповеденческой точки зрения (наряду с соответствующими функциями реакции, поскольку стимуляция всегда происходит как функциональное отношение; Sf↔Rf).
Кантор предлагает, что замещающая стимуляция возникает при двух условиях, оба из которых были идентифицированы и признаны другими. Первый из них, известный в других областях как генерализация, возникает, когда источники стимуляции имеют общие свойства, в основном формальные. Это означает, что реагирование, изначально происходящее в отношении стимуляции, присущей одному источнику, может перейти к реагированию в отношении стимуляции, действующей от другого формально похожего неоригинального источника. Мы реагируем на стул так же, как на ранее встреченный стул, основываясь на их формальном сходстве. События такого рода не ограничиваются общими формальными свойствами у людей с лингвистическим репертуаром (мы вернемся к этому позже).
Второй набор условий, при которых может развиваться замещающая стимуляция, — это условие, при котором оригинальные и неоригинальные источники присутствуют в пространственно-временном расположении таким образом, что происходит реагирование в отношении стимуляции от обоих источников. Эти обстоятельства таковы, что стимуляция, изначально присущая одному из этих источников, может замещающим образом перейти к другому, и наоборот. Кантор (например, 1924/1926) описывает, как история контакта с условиями ассоциации может привести к тому, что объект-стимул приобретет замещающие свойства другого объекта. Важно помнить, что условия ассоциации не являются менталистическими событиями в интерповеденческой психологии — индивиды не осуществляют ассоциацию и не говорят, что они ассоциируют. Условия ассоциации описывают одновременное присутствие двух или более вещей в пространстве и времени. Они могут включать стимулы и стимулы, стимулы и реакции, реакции и реакции, стимулы и обстановки, и многое другое (например, Kantor, 1924/1926). Важной особенностью является одновременное присутствие вещей или событий в пространстве и времени. Более того, одной только истории одновременного присутствия недостаточно — индивид должен каким-то образом реагировать на эти условия ассоциации. Например, сидение в определенном кафе, в котором играет определенная музыка (ассоциация между кафе и музыкой), может привести к тому, что человек увидит кафе, когда услышит только музыку, но только потому, что у индивида есть история пребывания в кафе под эту музыку. В то же время, хотя этот индивид сидел в определенном кафе и слушал музыку, рядом были и другие кафе, где играла другая музыка. Когда человек позже слышит музыку, которая играла в кафе, где его не было, он не увидит это кафе, потому что его там не было / у него нет истории реагирования на условие ассоциации каким-либо образом. В этом примере, когда человек видит кафе, слушая музыку, мы бы сказали, что музыка замещает кафе (или приобрела замещающие функции стимула кафе).
Этот второй набор условий в некоторой степени пересекается с традиционным понятием Павловского обусловливания, включая обусловливание высших порядков и сенсибилизацию, за исключением того, что оно считается всеобъемлющим, мультипликативным и недирективным. Поскольку условия для замещающей стимуляции такого рода всегда присутствуют, актуализация функций замещающей стимуляции происходит постоянно. Далее, как только замещающая стимуляция начинает присущать неоригинальному источнику, ее действие из этого источника предоставляет дополнительные возможности для замещения. Зрение через слух, как в примере с видением лица человека только по звуку его голоса, предоставляет возможность для развития замещающей стимуляции, изначально присущей лицу как источнику. То есть, можно не только увидеть лицо при наличии ранее записанного голоса, но и отреагировать на замещающую стимуляцию, присущую лицу как источнику (например, почувствовать горе, если, например, человек умер). Это случай замещения на замещение, или «двойное замещение», как его иногда называют (например, Muñoz-Blanco & Hayes, 2017). Двойное замещение, как и первое, может предоставлять дополнительные замещения (например, горе, вызывающее вину за предыдущее негативное взаимодействие с умершим человеком).
На этом этапе стоит отметить, что мы предполагаем, что замещающая стимуляция, как она концептуализируется здесь, не полностью отсутствует у невербальных организмов. Однако мы бы утверждали, что она значительно облегчается человеческим языком и настолько усиливается им, что репертуары вербальных и невербальных организмов едва ли можно сравнить.
Излишне говорить, что функции замещающего стимула↔реагирования такого рода являются особенностями большинства психологических взаимодействий. Кантор называет поле, в котором происходит замещение, имплицитным (сноска 4) полем (например, Kantor, 1924/1926). Как отмечалось выше, язык, по-видимому, делает замещение более повсеместным, например, когда специфические звуки (то есть слова) начинают ассоциироваться с другими окружающими вещами и событиями.
Стимульное замещение и RFT
Важно отметить, что между концепцией стимульного замещения и реляционной частью RFT существует некоторое пересечение. То есть, отношение в RFT определяется как реагирование на одну вещь или событие в терминах другого, что, как представляется, в целом соответствует идее замещения функций стимула (также Hayes, 1992b). В ответ можно возразить, что может существовать пересечение между концепцией замещения и трансформацией функций, специфичной для фрейма координации или эквивалентности (то есть, где аналогичная функция наблюдается для двух отдельных стимулов). Однако RFT включает, и фактически определяется частично, различными паттернами реляционного реагирования (т.е. фреймами). Остается вопрос, в какой степени интерповеденческая концепция стимульного замещения может также осмысленно объяснить идею RFT о множественных реляционных фреймах (то есть фреймы, отличные от координации).
Концепция замещения в интерповеденческой психологии может легко вместить множественные реляционные фреймы, если функция стимул-реакция сама по себе может включать формальное отношение между стимулами или между ними. Например, рассмотрим физическое различие в размере между теннисным мячом и баскетбольным. Конечно, два мяча могут иметь отдельные функции стимул-реакция, но в принципе физическое отношение между двумя объектами-стимулами также может порождать функцию стимул-реакция. То есть, отношения между условиями ассоциации (например, меньше чем, больше чем) сами по себе могут считаться объектами-стимулами (то есть источником стимуляции), имеющими потенциал для обладания функциями стимула. Реагирование в отношении такого объекта-стимула не обязательно требует лингвистического репертуара, поскольку не-люди легко реагируют в соответствии с такими формальными отношениями (например, таракан подойдет к более темной из двух областей).
Тем не менее, можно утверждать, что реагирование в отношении такого объекта-стимула (непроизвольное формальное отношение) может порождать функции стимул-реакция по отношению к лингвистическим или произвольным отношениям. Например, после того как функция стимул-реакция была установлена для стимулов, формально различающихся по размеру (например, больше/меньше чем), этот источник стимуляции может развить замещающие функции стимула для стимулов, произвольно различающихся по размеру (например, X больше, чем Y). Или, более разговорно, организм реагирует на X и Y так, как будто X — это баскетбольный мяч, а Y — теннисный. Почему и при каких обстоятельствах это происходит, можно объяснить только путем рассмотрения других участников интерповеденческого поля; в частности, истории и факторов обстановки, к которым мы теперь переходим.
Обстановка и история
Как было обсуждено ранее, Кантор (1958) рассматривал психологические события как поля интегрированных факторов, сосредоточенных вокруг функций стимуляции и реагирования. Функция стимуляции и реагирования является фокусом поля события в том смысле, что данное психологическое событие идентифицируется путем спецификации этой функции. Вокруг фокусной функции, или, точнее, непосредственных обстоятельств, в которых происходит фокусная функция, находится обстановка в формулировке Кантора. Далее описываются эти факторы, их участие и их значение для анализа интерповеденческих историй индивидов.
Обстановка (The Setting)
Условия обстановки — это факторы различных типов. Как их обычно представляют, это окружающие факторы довольно широкого или всеобъемлющего характера, такие как температура окружающей среды или погодные условия, такие как дождь. Их также можно рассматривать как комплексы или организации обстоятельственных элементов, например, когда конкретное место, такое как комната или город, идентифицируется как обстановка. Сюда также включены объекты-стимулы и события более дискретного характера (например, мотоцикл в более широкой обстановке гаража). По аналогии, может показаться, что обстановка означает абсолютно все в непосредственном окружении, когда происходит функция стимуляции и реагирования. Однако мы пришли к иному пониманию условий обстановки. Скорее, то, что составляет обстановку для интерповедения данного индивида, является вопросом любого элемента, который участвует в этом психологическом событии как интерактант с функциями стимул-реакция (то есть условие обстановки — это не просто все в окружающей среде, включая не участвующие события). Например, во время разговора звук пролетающего самолета может служить фактором обстановки в смысле «нарушения» хода беседы (мы вернемся к этому аргументу ниже).
Более того, условия обстановки не ограничиваются внешними факторами. Как упоминалось выше, они также включают телесные состояния, такие как усталость, боль, интоксикация и различные виды лишений. Наконец, другие текущие взаимодействия, особенно культурного характера, где доступны альтернативные репертуары, могут составлять условия обстановки. Например, присутствие в ситуации, где говорят на определенном языке, может служить условием обстановки (Kantor, 1977).
Среди этих многих факторов и их организации происходят функции стимуляции и реагирования. Учитывая, что объекты-стимулы и организмы являются источниками множественных функций стимула и реакции, возникает вопрос, что обусловливает функцию, которая происходит в данный момент. Может возникнуть соблазн предположить, что фокусные функции актуализируются обстановкой в том смысле, что она препятствует или способствует возникновению одних функций над другими, когда возможны альтернативы. Однако идентификация психологического события как интегрированного поля предостерегает от такой интерпретации. Действительно, в соответствии с полевой перспективой, обстановка не может считаться влияющей на психологическое событие, частью которого она сама является. Иными словами, обстановка не является самостоятельной сущностью, способной оказывать влияние на факторы, участвующие в поле психологического события. Она сама является участвующим фактором в этом поле.
По мере изменения функции стимуляции и реагирования, составляющей фокус поля события, меняется и обстановка. Обстановка меняется по мере того, как различные наборы факторов получают новые конфигурации — каждая конфигурация составляет новое поле события. Оставаясь с нашим предыдущим примером, звук самолета может быть условием обстановки, участвующим в поле события, в котором происходит разговор. Тем не менее, звук не препятствует или не способствует функциям стимул-реакция, которые составляют разговор как психологическое событие. Скорее, это часть самого события. В обыденном смысле звук самолета может рассматриваться как «препятствующий» способности слушателя слышать, что говорит говорящий, но с точки зрения психологического события, то, что слышно, слышно (то есть слушатель не слышит что-то идеально, что впоследствии каким-то образом затруднено).
Интерповеденческая история
Учет истории организма всегда был проблемой в дисциплине психологии, и различные решения этой проблемы не были особенно полезными (Hayes, 1992a). Интерповеденческая история концептуализируется для аналитических целей как включающая два элемента: реакционную биографию и эволюцию стимула (например, Kantor, 1924/1926; Kantor & Smith, 1975). Эти элементы представляют собой историческое развитие функций реакции и стимула соответственно. Настоящие обстоятельства могут быть поняты как точки, до которых эти элементы эволюционировали независимо и во взаимосвязи друг с другом (Hayes, 1992a). Примерами развития этих элементов истории индивида могут быть полезны. Постепенное изменение формальных характеристик реакции на физические свойства объекта-стимула (например, как ребенок начинает держать чашку), таким образом, чтобы сделать ее более утонченной, лучше подходящей или более эффективной в некотором роде, иллюстрирует развитие реакционной биографии. Элемент эволюции стимула может быть проиллюстрирован рассмотрением пожизненного развития функций замещения объектов-стимулов. Объекты-стимулы, изначально обладающие функциями стимула, имеющими свои источники только в их физических свойствах, впоследствии приобретают функции замещения других объектов благодаря своим временным и пространственным отношениям с этими объектами; те, в свою очередь, затем предоставляют возможности для развития дополнительных замещающих свойств.
Как упоминалось, эти элементы интерповеденческой истории различаются для того, чтобы подчеркнуть один или другой в анализе. Однако, как и элементы стимула и реакции функционального события, элементы эволюции стимула и реакционной биографии концептуализируются как особенности единства. Нет реакций без стимулов, нет стимулов без реакций, и нет истории, которая не включала бы их взаимодействие. Однако история взаимодействий сама по себе не является фактором, локализуемым в настоящем событийном поле. В настоящих обстоятельствах обнаруживаются точки, до которых эти элементы эволюционировали по отношению друг к другу (Hayes, 1992a). Функции стимуляции и реагирования в непосредственных обстоятельствах выявляют эти точки.
Обстановка, история и множественные отношения стимулов
После изложения обстановки и истории мы готовы использовать эти концепции для объяснения того, как функция стимул-реакция, установленная для стимулов, формально различающихся по размеру (например, баскетбольный мяч больше теннисного), может развить замещающие функции стимула для стимулов, произвольно различающихся по размеру (например, X больше Y). Согласно RFT, контекстуальные сигналы, такие как Crel «больше чем» или «меньше чем», определяют соответствующие реляционные реакции на стимулы, различающиеся непроизвольным образом (как отмечалось ранее, Cfunc определяют размерности, по которым трансформируются функции). Через множество примеров эти сигналы также возникают в присутствии стимулов, которые не связаны каким-либо четким непроизвольным образом, и, следовательно, индивид может реагировать на X как на «больше, чем Y», получив информацию о том, что Y «меньше, чем X».
С интерповеденческой точки зрения, такие контекстуальные сигналы интерпретируются как факторы обстановки, которые действуют как таковые, учитывая интерповеденческую историю, в которой эти сигналы участвовали. Функции стимул-реакция, задействованные в «реляционной реакции» в отношении X и Y, по оси размера, происходят в более широком интерповеденческом контексте факторов обстановки и истории. В отличие от того, как обсуждение в RFT часто подтверждает историю и сигналы как определяющие или контролирующие реляционные реакции, интерповеденческая интерпретация рассматривает их как участников интегрированного поля. Это различие между двумя способами концептуализации реляционных фреймов. Фундаментальное различие заключается в приписывании причинного влияния сигналам в одном случае и не в другом.
Отмечая вышеупомянутое различие, стоит подчеркнуть, что, строго говоря, контекстуальные сигналы (и их история) в RFT никогда не определялись как «существующие» вне концепции реляционного фрейма, функционально определенного. Как отмечалось ранее, концепция реляционного фрейма определяется как поведенческая единица реагирования, в которой свойства влечения и трансформации функций, а также соответствующие контекстуальные сигналы, неразделимы. Другими словами, метафорическая концепция фрейма в RFT наиболее полезно интерпретировать как контекстуальные сигналы в любом экземпляре реляционного реагирования (т.е. контекстуальные сигналы «обрамляют» реляционную реакцию). С этой точки зрения, концепция фрейма по определению включает сигналы как интегрированные в реляционную реакцию (т.е. они кодифицируют, поэтому очень близки к интерповеденческому взгляду).
Резюмирующее заявление
К этому моменту мы аргументировали, что концепция реляционного фрейма может быть легко интерпретирована с использованием интерповеденческих концепций стимульного замещения, функций стимул-реакция, обстановки и истории. В частности, это в первую очередь включает признание того, что функция стимул-реакция сама по себе может включать формальное отношение между стимулами или между ними. Как отмечалось ранее, два мяча могут иметь отдельные функции стимул-реакция, но в принципе физическое отношение между ними также может порождать функцию стимул-реакция. Кроме того, после установления функции стимул-реакция для стимулов, формально различающихся по размеру, этот источник стимуляции может развить замещающие функции стимула для стимулов, произвольно различающихся по размеру. Наконец, мы утверждали, что это замещение действует в более широком контексте конкретной организации факторов обстановки и интерповеденческой истории (то есть контекстуальных сигналов Crel и Cfunc в RFT).
Таким образом, на наш взгляд, основная концепция RFT (т.е. реляционный фрейм) представляется легко поддающейся полевой интерповеденческой интерпретации. Конечно, предстоит еще многое сделать, поскольку в RFT есть нечто большее, чем просто концепция реляционного фрейма. Действительно, последние разработки в теории представили гиперразмерную, многоуровневую (HDML) структуру для концептуализации большей части деталей внутри теории (Barnes-Holmes & Harte, 2022; Barnes-Holmes et al., 2020), но рассмотрение этого выходит за рамки настоящей статьи (но см. Harte & Barnes-Holmes, 2024, для последних начальных усилий в этом направлении).
В любом случае, прежде чем закончить, представляется разумным рассмотреть возможные возражения против основной идеи настоящей статьи. Делая это, мы вернемся к основополагающему тексту по RFT (Hayes et al., 2001), в котором были сформулированы конкретные возражения против канторианского интерповеденчества. В частности, мы рассмотрим эти возражения, чтобы определить, остаются ли они актуальными в свете текущего анализа. Прежде чем продолжить, читатель должен отметить, что ответы, которые мы представим в следующем разделе, в значительной степени являются результатом текущих эмпирических и концептуальных усилий в RFT, которые появились за последние годы. Однако это не означает, что не было никаких законных ответов на критику Hayes et al. на момент первоначальной публикации в 2001 году. Мы направляем читателя к Приложению A для кратких ответов на каждую из этих критик, которые также были применимы на момент первоначальной публикации, в то время как в основном тексте мы сосредоточимся на текущих ответах.
Первоначальные возражения RFT против канторианского интерповеденчества
Хотя RFT представлена в трактате 2001 года как имеющая «...легкий канторианский оттенок» из-за влияния Л. Дж. Хейза (Hayes, 2001, viii), в главе 1 этого тома С. С. Хейз, Блэкледжи и др. (2001) представляют три основных возражения против канторианского интерповеденчества. Во-первых, они заявляют:
Самая большая проблема заключается в том, что система Кантора не привела к сильной эмпирической традиции исследований языка. Кантор был философским психологом, а не эмпирическим ученым. Его работу в целом было трудно перевести в конкретные экспериментальные препараты.
(стр. 8).
Мы согласимся, что когда RFT впервые появилась в середине 1980-х годов, анализы феноменов, которыми интересовалась RFT, были довольно редки в поведенческом анализе в целом — в этом смысле RFT 2001 года можно было рассматривать как крупный вклад. Независимо от взглядов на RFT, эта первоначальная теория, безусловно, привела к богатому пласту исследований человеческого языка и познания. Однако важно отметить, что исследования становились все более сложными, что привело к нынешнему пересмотру теории через призму интерповеденчества. Учитывая это, и как недавно было изложено в другом месте (Harte & Barnes-Holmes, 2024), экспериментальные анализы на основе RFT за последние годы все чаще использовали поле теоретические анализы и концепции. В частности, экспериментальные исследования, направленные на анализ сложных реляционных сетей с использованием IRAP, все чаще включали концептуализацию реагирования в процедуре как поля поведенческих (вербальных) интерактантов (например, Barnes-Holmes et al., 2020; Bortoloti et al., 2023; Harte et al., 2023; Pidgeon et al., 2021; Pinto et al., 2020; Schmidt et al., 2021). Действительно, Harte и Barnes-Holmes (2024) недавно интерпретировали реагирование на IRAP с точки зрения формулы Кантора для психологического события и утверждали, что это легко вызывает богатые концептуальные и эмпирические вопросы. Поэтому представляется, что первое возражение, выдвинутое Hayes et al. (2001), может быть поставлено под сомнение, поскольку, простыми словами, некоторые экспериментальные анализы, по-видимому, возвращают RFT к канторианскому интерповеденчеству (см. также Finn & Barnes-Holmes, 2021).
Во-вторых, Hayes, Blackledge et al. (2001) утверждали, что,
... для проведения эксперимента приходится начинать подчеркивать один аспект поля над другими (например, когда проводится различие между независимыми и зависимыми переменными), но в системе Кантора все участники поля равны.
(стр. 8).
Конечно, мы согласны с тем, что нельзя изучать «интегрированное поле» — можно изучать только его части, и поэтому всякое исследование будет казаться ограниченным таким образом. Действительно, суть любого эксперимента, будь то оперантный или интерповеденческий, заключается в некотором упрощении сложностей взаимодействий поведения и окружающей среды, происходящих вне лаборатории. Таким образом, мы бы утверждали, что приведенное выше утверждение верно, но это не должно приводить к отказу от ценности философии и теории в первую очередь. В этом свете эксперименты, безусловно, включают определение контролирующих и контролируемых переменных, и концепция интерповеденческого поля на первый взгляд плохо согласуется с этим экспериментальным фокусом. Мы бы утверждали, однако, что четкое различие между исследовательскими и интерпретационными анализами/конструктами легко решает эту проблему (например, Kantor, 1957; Smith, 2007). В частности, хотя для исследовательских целей может быть полезно нацелиться на один конкретный элемент поля события и даже использовать линейный подход при планировании экспериментальной последовательности, такие действия не следует путать с интерпретационными конструктами чисто полевого анализа. Рассмотрим, например, экспериментальную работу, упомянутую в предыдущем пункте. Как изложено Harte и Barnes-Holmes (2024), в большей части этой экспериментальной работы использовались линейные анализы и конструкции, основанные на обусловленности, и действительно они позволили достичь многих аналитических целей. Однако относительно сложные функционально-аналитические объяснения сложных паттернов поведения появились только тогда, когда эти поведения были интерпретированы в поле теоретическом свете (см. Harte & Barnes-Holmes, 2024, для дальнейших деталей). Как таковые, не кажется, что есть проблема с фокусировкой на одном элементе интерповеденческого поля для исследовательских целей, признавая при этом, что интерпретативно все остальные элементы поля имеют равное значение и участвуют в любом интерпретационном анализе. Делая этот аргумент, мы предлагаем, чтобы исследовательские и интерпретационные анализы должны согласовываться, но одно не следует путать или смешивать с другим. В любом случае, учитывая вышеизложенное, второе возражение, выдвинутое Hayes et al. (2001), также может быть серьезно поставлено под сомнение.
Наконец, Hayes, Blackledge et al. (2001) заявили:
Другая эмпирическая трудность возникает из ограниченного набора задействованных поведенческих принципов. Опора Кантора на формальное сходство и нестрогую форму ассоциационизма просто не привела к согласованным экспериментальным процедурам, и процессы, которыми, как предполагал Кантор, будут объясняться замещающие функции языка, не переводились легко в лабораторию.
(стр. 8).
Как мы утверждали в настоящей статье, допуская стимульное замещение для стимулов, которые произвольно различаются, открывает дверь для всей программы исследований RFT, чтобы она (по крайней мере, потенциально) поддалась интерповеденческим полевым анализам. В частности, акцент Кантора на формальном сходстве и ассоциационизме, по-видимому, получают большую точность в контексте RFT. Кроме того, независимо от ваших взглядов на RFT как теоретическое описание, нельзя отрицать, что она служила для генерации относительно богатой и продолжающейся программы экспериментальных и прикладных исследований. Если эта исследовательская работа и ее будущее развитие будут все чаще рассматриваться с интерповеденческой точки зрения, вышеупомянутая критика, касающаяся отсутствия согласованных экспериментальных процедур и процессов, кажется, исчезает.
Заключение
В заключение мы признаем, что концептуальная интеграция основной концепции реляционного фрейма в RFT с канторианским интерповеденческим теоретизированием может показаться бросающей вызов акценту на оперантно-основанных анализах в рамках RFT. Хотя это, безусловно, так с интерпретационной точки зрения, исследовательские анализы почти наверняка будут продолжать извлекать выгоду из, и действительно руководствоваться, некоторого уровня оперантной концептуализации. Психологическая область человеческого языка и познания, несомненно, очень сложна, и эта сложность, как представляется, легко отражается в поле теоретизировании. Однако при преследовании исследовательских целей предсказания и влияния представляется необходимым каким-то образом разбирать поле события, но при этом всегда осознавать, что сложное было временно упрощено в интересах достижения некоторой конкретной исследовательской цели. Мы надеемся, что предложенное нами здесь окажет некоторую помощь в прохождении этого концептуального канатоходства.
Наконец, представляется важным спросить, почему мы вообще должны пытаться пройти этот канатоходство? Например, мы представляем, что по крайней мере некоторые исследователи RFT будут сопротивляться тому, что мы предлагаем здесь, утверждая, что RFT прекрасно справляется и что вышеизложенный анализ не нужен. Оставляя в стороне тот факт, что RFT имеет исторические корни в канторианской традиции, и на основании интеллектуальной честности это не следует отрицать, мы считаем, что есть явные преимущества в применении интерповеденческого подхода к RFT.
Помимо того, что RFT-исследователи будут обращаться к огромной сложности человеческого языка и познания, которая, на наш взгляд, более четко проявляется через интерповеденческую линзу, это также обеспечивает сильную профилактику против скатывания в менталистические интерпретации RFT. Действительно, легко увидеть, как такие интерпретации могут возникнуть, когда связь стимулов иногда описывается в литературе как нечто, что организм просто делает (т.е. вместо того, чтобы быть исторически обусловленным паттерном поведения по отношению к этим стимулам). Хотя «делать» не является явно менталистическим в мейнстримном когнитивном смысле (т.е. ментальная обработка), оно легко приписывает «причинную» агентность организму (т.е. делать что-то). А когда это «делание» является «связыванием», особенно если оно считается приватным событием, скользкий путь к полному ментализму трудно избежать (см. Hayes & Fryling, 2009; см. также Baum, 2011a, b, и Rachlin, 2011). Если же реляционное реагирование четко определено как функция стимул-реакция, то свободный язык (в интересах легкого общения) с меньшей вероятностью будет интерпретироваться как явные примеры ментализма.
Более того, мы надеемся, что возвращение к интерповеденческим основам RFT может способствовать дальнейшему развитию работы по мере ее движения к более полному пониманию важного феномена, которым являются человеческий язык и познание.